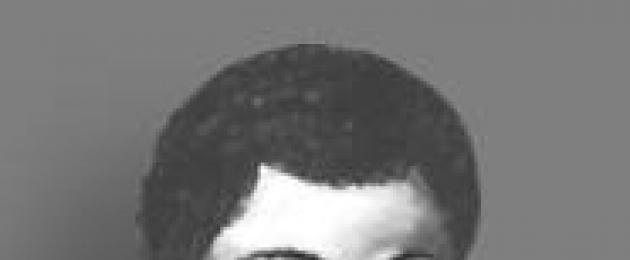Биография
Русский царь-самозванец (1605-1606). В 1601 году объявился в Польше под именем сына Ивана IV - Дмитрия. В 1604 году перешел с польско-литовским отрядом границу, был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. Став русским царем, попытался лавировать между польскими и русскими феодалами. Убит боярами-заговорщиками во главе с Василием Шуйским.
История самозванца, принявшего имя царевича Дмитрия, принадлежит к числу самых драматических эпизодов русской истории.
...Семья Отрепьевых имела давние связи с Угличем, резиденцией погибшего царевича Дмитрия. Предки Григория прибыли на Русь из Литвы. Одни из них осели в Галиче, а другие - в Угличе. В 1577 году неслужилый «новик» Смирной-Отрепьев и его младший брат Богдан получили поместье в Коломне. В то время Богдану едва исполнилось 15 лет. Несколько лет спустя у него появился сын, названный Юрием. Примерно в то же время у царя Ивана родился сын Дмитрий. Совершеннолетия Юшка достиг в самые последние годы царствования Федора.
Богдан Отрепьев дослужился до чина стрелецкого сотника и рано погиб. Судя по всему, Богдан обладал таким же буйным характером, как и его сын. Жизнь сотника оборвалась в Немецкой слободе в Москве. Там, где иноземцы свободно торговали вином, нередко случались пьяные драки. В одной из них Богдана зарезал некий литвин.
После смерти отца Юшку воспитывала мать. Благодаря ее стараниям мальчик научился читать Священное писание. Когда возможности домашнего образования оказались исчерпанными, его послали на учебу в Москву, где жил зять Отрепьевой, Семейка Ефимьев, которому суждено было сыграть в жизни Юшки особую роль. Похоже, именно в доме дьяка Ефимьева он выучился писать. (После пострижения Гришка Отрепьев стал переписчиком книг на патриаршем дворе. Без каллиграфического почерка он никогда бы не получил это место. В московских приказах ценили каллиграфическое письмо, и приказные дельцы вроде Ефимьева обладали хорошим почерком.)
Ранние жизнеописания изображали юного Отрепьева беспутным негодяем. При Шуйском такие отзывы были забыты. Во времена Романовых писатели не скрывали удивления по поводу необыкновенных способностей юноши, но при том высказывали подозрение, не общался ли он с нечистой силой. Учение давалось Отрепьеву с поразительной легкостью.
Бедность и сиротство не позволяли способному ученику надеяться на выдающуюся карьеру. Юрий поступил на службу к Михаилу Романову. Многие считали Романовых наследниками короны. Служба при их дворе, казалось бы, сулила юноше определенные перспективы. К тому же родовое гнездо Отрепьевых располагалось на Монзе, притоке Костромы, и там же находилась знаменитая костромская вотчина Романовых - село Домнино. Соседство по имению, по-видимому, тоже сыграло роль в том, что провинциальный дворянин отправился на московское подворье бояр Романовых.
На государевой службе Отрепьевы подвизались в роли стрелецких командиров. Юшка «принял честь» от князя Бориса Черкасского, то есть его карьера началась вполне успешно.
Однако опала, постигшая романовский круг в ноябре 1600 года, едва не погубила Отрепьева. Под стенами романовского подворья произошло настоящее сражение. Вооруженная свита Романовых оказала отчаянное сопротивление царским стрельцам.
Юшке Отрепьеву повезло - он чудом спасся в монастыре от смертной казни, ибо его, как боярского слугу, ждала виселица. Страх перед наказанием привел Отрепьева в монастырь. 20-летнему дворянину, полному надежд, сил и энергии, пришлось покинуть свет, забыть мирское имя. Отныне он стал смиренным чернецом (монахом) Григорием.
Во время своих скитаний Григорий побывал в галичском Железноборском монастыре (по некоторым сведениям, он там и постригся) и в суздальском Спасо-Евфимьеве монастыре. По преданию, в Спасо-Евфимьеве монастыре Гришку отдали «под начало» духовному старцу. Жизнь «под началом» оказалась стеснительной, и чернец покинул обитель.
Переход от жизни в боярских теремах к прозябанию в монашеских кельях был слишком резким. Чернец тяготился монашеским одеянием, поэтому отправился в столицу.
Как же осмелился Отрепьев вновь появиться в Москве? Во-первых, царь отправил Романовых в ссылку и прекратил розыск. Оставшиеся в живых опальные очень скоро заслужили прощение. Во-вторых, по словам современников, монашество на Руси нередко спасало преступников от наказания. Опальный монах попал в Чудов, самый аристократический, кремлевский монастырь. Григорий воспользовался протекцией: «Бил челом об нем в Чюдове монастыре архимариту Пафнотью».
Отрепьев недолго прожил под надзором деда. Архимандрит вскоре перевел его в свою келью. Там чернец, по его собственным словам, занялся литературным трудом. «Живучи-де в Чудове монастыре у архимарита Пафнотия в келии, - рассказывал он знакомым монахам, - да сложил похвалу московским чудотворцам Петру, и Алексею, и Ионе». Старания Отрепьева были оценены, и с этого момента начался его стремительный, почти сказочный взлет.
Григорий был очень молод и провел в монастыре немного времени. Однако Пафнутий произвел его в дьяконы. Роль келейника влиятельного чудовского архминандрита могла удовлетворить любого, но не Отрепьева. Покинув келью, он переселился на патриарший двор. Придет время, и патриарх Иов будет оправдываться тем, что он приглашал к себе Гришку лишь «для книжного письма». На самом же деле Отрепьев не только переписывал книги на патриаршем дворе, но и сочинял каноны святым. Патриарх говорил, что чернеца Григория знают и епископы, и игумены, и весь священный собор. Вероятно, так оно и было. На собор и в думу патриарх Иов являлся с целым штатом помощников. В числе их оказался и Отрепьев. Своим приятелям Григорий говорил так: «Патриарх-де, видя мое досужество, и учал на царскую думу вверх с собою меня имати, и в славу-де я вшел великую». Заявление Отрепьева насчет его великой славы нельзя считать простым хвастовством.
После службы у Романовых, Отрепьев быстро приспособился к новым условиям жизни. Случайно попав в монашескую среду, он сразу выделился в ней. Юному честолюбцу помогли выдвинуться не подвиги аскетизма, а необыкновенная восприимчивость натуры. В течение месяца Григорий усваивал то, на что другие тратили жизнь. Церковники сразу оценили живой ум и литературные способности Отрепьева. Что-то притягивало к нему и подчиняло других людей. Служба у деда, келейник чудовского архимандрита и, наконец, придворный патриарха! Надо было обладать незаурядными качествами, чтобы сделать такую выдающуюся карьеру всего за один год. Однако Отрепьев очень спешил - должно быть, чувствуя, что ему суждено прожить совсем недолгую жизнь...
Григорий хвастался, что может стать царем в Москве. Узнав об этом, царь Борис приказал сослать его в Кириллов монастырь. Но, вовремя предупрежденный, Григорий успел бежать в Галич, потом в Муром, и, вернувшись в Москву, в 1602 году бежал из нее. Отрепьев бежал за кордон не один, а в сопровождении двух монахов - Варлаама и Мисаила. (Имя сообщника Отрепьева, «вора» Варлаама, было всем известно из борисовских манифестов. Варлаам вернулся в Россию через несколько месяцев после воцарения Лжедмитрия I. Воеводы самозваного царя на всякий случай задержали «вора» на границе и в Москву не пустили. После смерти Лжедмитрия Варлаам написал знаменитый «Извет», в котором не столько бранил Отрепьева, сколько оправдывал себя.)
Отъезжавших монахов никто в городе не преследовал. В первый день они спокойно беседовали на центральной посадской улице, на другой день встретились в Иконном ряду, прошли за Москву-реку и там наняли подводу. Никто не тревожил бродячих монахов и в приграничных городах. Отрепьев открыто служил службу в церкви. В течение трех недель друзья собирали деньги на строительство захолустного монастыря. Все собранное серебро иноки присвоили себе.
Власти не имели причин принимать экстренные меры для их поимки. Беглецы миновали границу без всяких приключений. Сначала монахи провели три недели в Печерском монастыре в Киеве, а потом перешли во владения князя Константина Острожского, в Острог. Отрепьев, проведя лето в Остроге, успел снискать расположение магната и получил от него щедрый подарок.
Описывая свои литовские скитания, «царевич» упомянул о пребывании у Острожского, переходе к Габриэлю Хойскому в Гощу, на Волыни, а потом в Брачин, к Вишневецкому. Отрепьев не для того покинул патриарший дворец и кремлевский Чудов монастырь, чтобы похоронить себя в захолустном литовском монастыре. Григорий сбросил монашеское одеяние и, наконец, объявил себя царевичем. Когда Адам Вишневецкий известил короля о появлении московского «царевича», тот затребовал подробные объяснения. И князь Адам в 1603 году записал рассказ самозванца о его чудесном спасении.
«Царевич» довольно подробно поведал о тайнах московского двора, но начинал фантазировать, едва переходил к изложению обстоятельств своего чудесного спасения. По словам «Дмитрия», его спас некий воспитатель, который, узнав о планах жестокого убийства, подменил царевича мальчиком того же возраста. Несчастный мальчик и был зарезан в постельке царевича. Мать-царица, прибежав в спальню и глядя на убитого, лицо которого стало свинцово-серым, не распознала подлога.
«Царевич» избегал называть точные факты и имена, которые могли быть опровергнуты в результате проверки. Он признавал, что его чудесное спасение осталось тайной для всех, включая мать, томившуюся тогда в монастыре в России.
Новоявленный «царевич» в Литве жил у всех на виду, и любое его слово легко было тут же проверить. Если бы «Дмитрий» попытался скрыть известные всем факты, он прослыл бы явным обманщиком. Так, все знали, что московит явился в Литву в рясе. О своем пострижении «царевич» рассказал.следующее. Перед смертью воспитатель вверил спасенного им мальчика попечению некоей дворянской семьи. «Верный друг» держал воспитанника в своем доме, но перед кончиной посоветовал ему, чтобы избежать опасности, войти в обитель и вести жизнь монашескую. Юноша так и сделал. Он обошел многие монастыри Московии, и, наконец, «один монах опознал в нем царевича. Тогда «Дмитрий» решил бежать в Польшу...
По-видимому, Отрепьев уже в Киево-Печерском монастыре пытался выдать себя за царевича Дмитрия. В книгах Разрядного приказа сохранилась любопытная запись о том, как Отрепьев разболелся «до умертвия» и открылся печерскому игумену, сказав, что он царевич Дмитрий. Печерский игумен указал Отрепьеву и его спутникам на дверь. «Четыре-де вас пришло, - сказал он, - четверо и подите».
Кажется, Отрепьев не раз использовал один и тот же трюк. Он прикидывался больным не только в Печерском монастыре. По русским летописям, Григорий «разболелся» и в имении Вишневецкого. На исповеди он открыл священнику свое «царское происхождение». Впрочем, в докладе Вишневецкого королю никаких намеков на этот эпизод нет. Так или иначе попытки авантюриста найти поддержку у православного духовенства в Литве потерпели неудачу. В Киево-Пёчерском монастыре ему указали на дверь. В Остроге и Гоще было не лучше. Самозванец не любил вспоминать это время. На исповеди у Вишневецкого «царевич» сообщил, будто бежал к Острожскому и Хойскому.
Совсем по-другому излагали дело иезуиты. Они утверждали, что претендент обращался за помощью к Острожскому, но тот будто бы велел гайдукам вытолкать самозванца за ворота. Сбросив монашеское платье, «царевич» лишился верного куска хлеба и, по словам иезуитов, стал прислуживать на кухне у пана Хойского.
Никогда еще сын московского дворянина не опускался так низко. Кухонная прислуга... Растерявший разом всех своих прежних покровителей, Григорий, однако, не пал духом. Тяжелые удары судьбы могли сломить кого угодно, но только не его.
«Расстрига» очень скоро нашел новых покровителей, и весьма могущественных, в среде польских и литовских магнатов. Первым из них был Адам Вишневецкий. Он снабдил Отрепьева приличным платьем, велел возить его в карете в сопровождении своих гайдуков.
Авантюрой магната заинтересовались польский король Сигизмунд III и первые сановники государства, в их числе канцлер Лев Сапега. На службе у канцлера подвизался некий холоп Петрушка, московский беглец, по происхождению лифляндец, попавший в Москву в годовалом возрасте как пленник. Тайно потворствуя интриге, Сапега объявил, что его слуга, которого теперь стали величать Юрием Петровским, хорошо знал царевича Дмитрия по Угличу.
При встрече с самозванцем Петрушка, однако, не нашелся, что сказать. Тогда Отрепьев, спасая дело, сам «узнал» бывшего слугу и с большой уверенностью стал расспрашивать его. Тут холоп также признал «царевича» по характерным приметам: бородавке около носа и неравной длине рук. Как видно, приметы Отрепьева сообщили холопу заранее те, кто подготовил инсценировку.
Сапега оказал самозванцу неоценимую услугу. Одновременно ему стал открыто покровительствовать Юрий Мнишек. Один из холопов Мнишека также «узнал» в Отрепьеве царевича Дмитрия.
Таковы были главные лица, подтвердившие в Литве царское происхождение Отрепьева. К ним присоединились московские изменники братья Хрипуновы. Эти дворяне бежали в Литву в первой половине 1603 года.
При царе Борисе Посольский приказ пустил в ход версию, будто Отрепьев бежал от патриарха после того, как прослыл еретиком. Он отверг родительский авторитет, восстал против самого Бога, впал в «чернокнижье». Московские власти адресовали подобные заявления польскому двору. Они старались доказать, что Отрепьев был осужден судом. Это давало им повод требовать от поляков выдачи беглого преступника.
Конечно, Вишневецкий и Мнишек не сомневались в том, что имеют дело с самозванцем. Поворот в карьере авантюриста наступил лишь после того, как за его спиной появилась реальная сила.
Отрепьев с самого начала обратил свои взоры в сторону запорожцев. Ярославец Степан, державший иконную лавку в Киеве, показывал, что к нему захаживали казаки и с ними Гришка, который был еще в монашеском платье. У черкас (казаков) днепровских в полку видел Отрепьева, но уже «розстрижена», старец Венедикт: Гришка ел с казаками Мясо (очевидно, дело было в пост, что и вызвало осуждение старца) и «назывался царевичем Дмитрием».
Поездка в Запорожье связана была с таинственным исчезновением Отрепьева из Гощи. Перезимовав в Гоще, Отрепьев с наступлением весны «из Гощеи пропал безвестно». Замечательно, что расстрига общался как с гощинскими, так и с запорожскими протестантами. В Сечи его с честью приняли в роте старшины Герасима Евангелика.
Сечь бурлила. Буйная запорожская вольница точила сабли на московского царя. Сведения о нападении запорожцев совпадают по времени со сведениями о появлении среди них самозваного царевича. Именно в Запорожье в 1603 году началось формирование повстанческой армии, которая позже приняла участие в московском походе самозванца. Казаки энергично закупали оружие, вербовали охотников.
К новоявленному «царевичу» явились гонцы с Дона. Донское войско готово было идти на Москву. Самозванец послал на Дон свой штандарт - красное знамя с черным орлом. Его гонцы выработали затем «союзный договор» с казачьим войском.
В то время как окраины глухо волновались, в сердце России появились многочисленные повстанческие отряды. Династия Годуновых оказалась на краю гибели. Отрепьев уловил чутьем, сколь огромные возможности открывает перед ним сложившаяся ситуация.
Казаки, беглые холопы, закрепощенные крестьяне связывали с именем царевича Дмитрия надежды на освобождение от ненавистного крепостнического режима, установленного в стране Годуновым. Отрепьеву представлялась возможность возглавить широкое народное выступление.
Лжедмитрий-Отрепьев, будучи дворянином по происхождению и воспитанию, не доверял ни вольному «гулящему» казаку, ни пришедшему в его лагерь комарицкому мужику. Самозванец мог стать казацким предводителем, вождем народного движения. Но он предпочел сговор с врагами России.
Иезуиты решили с помощью московского царевича осуществить заветную цель римского престола - подчинение русской церкви папскому владычеству. Сигизмунд III попросил Вишневецкого и Мнишека привезти царевича в Краков. В конце марта 1604 года «Дмитрия» привезли в польскую столицу и окружили иезуитами, которые старались убедить его в истинах римско-католический веры. «Царевич» понял, что в этом состоит его сила, притворялся, что поддается увещеваниям и, как рассказывали иезуиты, принял святое причастие из рук папского нунция Рангони и обещал ввести римско-католическую веру в московском государстве, когда получит престол.
Перемирие с Польшей 1600 году не обеспечило России безопасности западных границ. Король Сигизмунд III вынашивал планы широкой экспансии на востоке. Он оказал энергичную поддержку Лжедмитрию I и заключил с ним тайный договор. Взамен самых неопределенных обещаний самозванец обязался передать Польше плодородную Чернигово-Северскую землю. Семье Мнишек, своим непосредственным покровителям, Отрепьев посулил Новгород и Псков. Лжедмитрий не задумываясь перекраивал русские земли, лишь бы удовлетворить своих кредиторов. Но самые дальновидные политики Речи Посполитой, включая Замойского, решительно возражали против войны с Россией. Король не выполнил своих обещаний. В походе Лжедмитрия I королевская армия не участвовала. Под знаменами Отрепьева собралось около двух тысяч наемников - всякий сброд, мародеры, привлеченные жаждой наживы. Эта армия была слишком малочисленной, чтобы затевать интервенцию в Россию. Но вторжение Лжедмитрия поддержало донское казачье войско.
Несмотря на то что царские воеводы, выступившие навстречу самозванцу с огромными силами, действовали вяло и нерешительно, интервенты довольно скоро убедились в неверности своих расчетов. Получив отпор под стенами Новгород-Северского, наемники в большинстве своем покинули лагерь самозванца и ушли за рубеж. Нареченный тесть самозванца и его «главнокомандующий» Юрий Мнишек последовал за ними. Вторжение потерпело провал, но вооруженная помощь поляков позволила Лжедмитрию продержаться на территории Русского государства первые, наиболее трудные, месяцы, пока волны народного восстания не охватили всю южную окраину государства. Голод обострил обстановку.
Когда Борису донесли о появлении самозванца в Польше, он не стал скрывать своих подлинных чувств и сказал в лицо боярам, что это их рук дело и задумано, чтобы свергнуть его. Кажется непостижимым, что позже Годунов вверил тем же боярам армию и послал их против самозванца. Поведение Бориса не было в действительности необъяснимым.
Дворянство в массе своей настороженно отнеслось к самозваному казацкому царьку. Лишь несколько воевод невысокого ранга перешли на его сторону. Чаще крепости самозванцу сдавали восставшие казаки и посадские люди, а воевод приводили к нему связанными.
Бывший боярский слуга и расстрига Отрепьев, оказавшись на гребне народного выступления против Годунова, попытался сыграть роль казацкого атамана и народного вождя. Именно это и позволило авантюристу, явившемуся в подходящий момент, воспользоваться движением в корыстных целях.
Покинутый большей частью наемников, Отрепьев спешно формировал армию из непрерывно стекавшихся к нему казаков, стрельцов и посадских людей. Самозванец стал вооружать крестьян и включил их в свое войско. Войско Лжедмитрия тем не менее было наголову разбито царскими воеводами в битве под Добрыничами 21 января 1605 года. При энергичном преследовании воеводы могли бы захватить самозванца или изгнать его из пределов страны, но они медлили и топтались на месте. Бояре не предали Бориса; но им пришлось действовать среди враждебного населения, восставшего против крепостнического государства. Несмотря на поражение Лжедмитрия, его власть вскоре признали многие южные крепости. Полки были утомлены длительной кампанией, и дворяне самовольно разъезжались по домам. В течение почти полугода воеводы не сумели взять Кромы, в которых засел атаман Корела с донцами. Под обгорелыми стенами этой крепости решилась судьба династии.
Обуреваемый страхом перед самозванцем, Годунов не раз засылал в его лагерь тайных убийц. Позже он приказал привезти в Москву мать Дмитрия и выпытывал у нее правду: жив ли царевич или его давно нет на свете.
13 апреля 1605 года Борис скоропостижно умер в Кремлевском дворце. Передавали, будто он из малодушия принял яд. Находившийся при особе царя во дворце Яков Маржарет засвидетельствовал, что причиной смерти Бориса явился апоплексический удар.
Незадолго до кончины Годунов решил доверить командование армией любимому воеводе Петру Басманову, отличившемуся в первой кампании против самозванца. Молодому и не слишком знатному воеводе предназначалась роль спасителя династии. Последующие события показали, что Борис допустил роковой просчет.
Между тем Лжедмитрий медленно продвигался к Москве, посылая вперед гонцов с письмами к столичным жителям. Когда разнесся слух о приближении «истинного» царя, Москва «загудела как пчелиный улей»: кто спешил домой за оружием, кто готовился встречать «сына» Грозного. Федор Годунов, его мать и верные им бояре, «полумертвые от страха, затворились в Кремле» и усилили стражу. Военные меры имели своей целью «обуздать народ», ибо, по словам очевидцев, «в Москве более страшились жителей, нежели неприятеля или сторонников Димитрия».
1 июня посланцы Лжедмитрия Гаврила Пушкин и Наум Плещеев прибыли в Красное село, богатое торговое место в окрестностях столицы. Их появление послужило толчком к давно назревавшему восстанию. Красносельцы двинулись в столицу, где к ним присоединились москвичи. Толпа смела стражу, проникла в Китай-город и заполнила Красную площадь. Годуновы выслали против толпы стрельцов, но они оказались бессильны справиться с народом. С Лобного места Гаврила Пушкин прочитал «прелестные грамоты» самозванца с обещанием многих милостей всему столичному населению - от бояр до «черных людей».
Годуновы могли засесть в Кремле «в осаде», что не раз спасало Бориса. Но их противники позаботились о том, чтобы крепостные ворота не были заперты. Вышедшие к народу бояре одни открыто, а другие тайно агитировали против Федора Борисовича. Бывший опекун Дмитрия, Богдан Бельский всенародно поклялся, что сам спас сына Грозного, и его слова положили конец колебаниям толпы. Народ ворвался в Кремль и принялся громить дворы Годуновых. Посадские люди разнесли дворы многих состоятельных людей и торговцев, нажившихся на голоде.
Водворившись в Кремле, Богдан Бельский пытался править именем Дмитрия. Но самозванцу он казался слишком опасной фигурой. Свергнутая царица была сестрой Бельского, и Отрепьев не мог поручить ему казнь семьи Бориса Годунова. Бельский вынужден был уступить место боярину Василию Голицыну, присланному в Москву самозванцем.
Лжедмитрий медлил и откладывал въезд в Москву до той поры, пока не убрал все препятствия со своего пути. Его посланцы арестовали патриарха Иова и с позором сослали его в монастырь. Иова устранили не только за преданность Годуновым. Отрепьева беспокоило другое. В бытность дьяконом самозванец служил патриарху и был хорошо ему известен. После низложения Иова князь Василий Голицын со стрельцами явился на подворье к Годуновым и велел задушить царевича Федора Борисовича и его мать. Бояре не оставили в покое прах Бориса. Они извлекли его труп из Архангельского собора и закопали вместе с останками жены и сына на заброшенном кладбище за городом.
20 июля Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. Но уже через несколько дней раскрылся заговор бояр против него. Василий Шуйский был уличен в распространении слухов о самозванстве нового царя и, отданный Лжедмитрием под суд собора, состоявшего из духовенства, бояр и простых людей, был приговорен к смертной казни. Лжедмитрий заменил ее ссылкой в галицкие пригороды, но затем вернул Шуйского и его двух братьев с дороги и, простив, возвратил им имения и боярство.
Петр Иов был низложен и на место его возведен архиепископ рязанский, грек Игнатий, который 21 июля и венчал Лжедмитрия на царство. Как правитель, самозванец отличался энергичностью, большими способностями, широкими реформаторскими замыслами. «Остротою смысла и учением книжным себе давно искусив», - говорил о нем князь Хворостинин.
Лжедмитрий ввел в думу в качестве постоянных членов высшее духовенство; учредил новые чины на польский манер: мечника, подчашия, подскарбия. Он принял титул императора или цезаря, удвоил жалованье служивым людям; старался облегчить положение холопов, воспрещая записи в наследственное холопство. Лжедмитрий хотел сделать свободным выезд своим подданным в Западную Европу для образования, приближал к себе иноземцев. Он мечтал создать союз против Турции, в который вошли бы Германия, Франция, Польша, Венеция и Московское государство. Его дипломатические отношения с папой и Польшей преследовали главным образом эту цель, а также признание за ним императорского титула. Папа, иезуиты и Сигизмунд, рассчитывавшие видеть в Лжедмитрии покорное орудие своей политики, просчитались. Он держал себя вполне самостоятельно, отказался вводить католицизм и допустить иезуитов. Лжедмитрий отказался делать какие-либо земельные уступки Польше, предлагая денежное вознаграждение за оказанную ему помощь.
10 ноября 1605 года состоялось в Кракове обручение Лжедмитрия, которого заменял в обряде посол московский Власьев, а 8 мая 1606 года в Москве s был заключен и брак самозванца с Мариной Мнишек.
Царь Дмитрий все еще был популярен среди москвичей, но их раздражали иноземцы, прибывшие в столицу в свите Мнишеков. Безденежные шляхтичи хвастались, что посадили на Москве «своего царя». Поляков, кстати, среди них было не так уж и много: явно преобладали выходцы с Украины, из Беларуси и Литвы, многие были православными. Но их обычаи, поведение, наряд резко отличались от московских и уже этим раздражали. Москвичей выводили из себя постоянные салюты из огнестрельного оружия, к которым пристрастились шляхтичи и их слуги. Дошло до того, что иноземцам перестали продавать порох.
Воспользовавшись раздражением москвичей против поляков, наехавших в Москву с Мариной и позволявших себе разные бесчинства, мятежные бояре во главе с Василием Шуйским в ночь с 16 на 17 мая ударили в набат, объявили сбежавшемуся народу, что ляхи бьют царя, и, направив толпы на поляков, сами прорвались в Кремль.
Лжедмитрий, ночевавший в покоях царицы, бросился в свой дворец, чтобы узнать, что происходит. Завидев подступившую к Кремлю толпу (из охранявших царя 100 «немцев» Шуйский предусмотрительно отослал с вечера 70 человек; оставшиеся не смогли оказать сопротивления и сложили оружие), царь пытался спуститься из окна по лесам, устроенным для иллюминации. Если бы ему удалось уйти из Кремля, кто знает, как повернулись бы события. Но он оступился, упал и повредил ногу. Лжедмитрий пытался сначала защищаться, затем бежал к стрельцам, но последние, под давлением боярских угроз, выдали его, и он был застрелен Валуевым. Народу объявили, что царь был самозванцем. Тело его сожгли и, зарядив прахом пушку, выстрелили в ту сторону, откуда он пришел.
С помощью дополнительной информации и Интернета соберите информацию о Григории Отрепьеве. На основе полученной информации напишите (в тетради) короткое историческое исследование на тему «Григорий Отрепьев - авантюрист на польской службе?».
Ответ
Григорий Отрепьев – авантюрист на польской службе?
Отрепьев принадлежал к небогатому роду Нелидовых, один из представителей которого, Давид Фарисеев, получил от Ивана III нелестную кличку Отрепьев. Считается, что Юрий был на год или два старше царевича.
Отец Юрия, Богдан, имел поместье в Галиче (Костромская волость) недалеко от Железно-Боровского монастыря, величиной в 400 четей (около 40 гектаров) и 14 рублей жалования за службу сотником в стрелецких войсках. Имел двоих детей - Юрия и его младшего брата Василия. Доходов, вероятно, не хватало, так как Богдан Отрепьев вынужден был арендовать землю у Никиты Романовича Захарьина (деда будущего царя Михаила), чье имение находилось тут же по соседству. Погиб он очень рано, в пьяной драке, зарезанный в Немецкой слободе неким «литвином», так что воспитанием сыновей занималась его вдова.
Ребёнок оказался весьма способным, легко выучился чтению и письму, причем успехи его были таковы, что решено было отправить его в Москву, где он в дальнейшем поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову.
Здесь он опять же показал себя с хорошей стороны и дослужился до высокого положения - что едва не погубило его во время расправы с «романовским кружком». Спасаясь от смертной казни, он постригся в монахи в том же монастыре Железный Борок под именем Григория. Однако простая и непритязательная жизнь провинциального монаха его не привлекала, часто переходя из одного монастыря в другой, он в конечном итоге возвращается в столицу, где по протекции своего деда Елизария Замятни, поступает в аристократический Чудов монастырь. Грамотного монаха вскоре замечает архимандрит Пафнутий, затем после того, как Отрепьев составил похвалу московским чудотворцам, он делается «крестовым дьяком» - занимается перепиской книг и присутствует в качестве писца в «государевой Думе».
Именно там, если верить официальной версии, выдвинутой правительством Годунова, будущий претендент начинает подготовку к своей роли; сохранились свидетельства чудовских монахов, что он расспрашивал их о подробностях убийства царевича, а также о правилах и этикете придворной жизни.
Позже, опять же если верить официальной версии, «чернец Гришка» начинает весьма неосмотрительно хвалиться тем, что когда-нибудь займёт царский престол. Похвальбу эту ростовский митрополит Иона доносит до царских ушей, и Борис приказывает сослать монаха в отдалённый Кириллов монастырь, но дьяк Смирной-Васильев, которому было это поручено, по просьбе другого дьяка Семёна Ефимьева отложил исполнение приказа, потом же совсем забыл об этом, пока неизвестно кем предупреждённый Григорий бежит в Галич, затем в Муром, в Борисоглебский монастырь и далее - на лошади, полученной от настоятеля, через Москву в Речь Посполитую, где и объявляет себя «чудесно спасшимся царевичем».
Отмечается, что бегство это подозрительно совпадает со временем разгрома «романовского кружка», также замечено, что Отрепьеву покровительствовал кто-то достаточно сильный, чтобы спасти его от ареста и дать время бежать. Сам Лжедмитрий, будучи в Польше, однажды оговорился, что ему помог дьяк Василий Щелкалов, также подвергшийся затем гонению от царя Бориса.
Когда в 1604 году самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия (Лжедмитрий I), перешёл русскую границу и начал войну против Бориса Годунова, правительство Бориса официально объявило, что под именем царевича скрывается беглый монах, расстрига Гришка Отрепьев. Григорию была объявлена анафема. Узнав об этом, Лжедмитрий в некоторых занятых им городах показывал народу человека, который утверждал, что он и есть Григорий Отрепьев, а тот, кто выдаёт себя за Дмитрия - не Отрепьев, а истинный царевич. По некоторым данным, роль Отрепьева играл другой монах, «старец» Леонид (старцами в то время называли монахов не обязательно пожилого возраста).
Правительство Фёдора Годунова в связи с этим внесло (апрель 1605 г.) в формулу присяги царю отказ от поддержки «тому, кто именует себя Дмитрием» - а не «Отрепьеву». Это вызвало у многих уверенность в том, что версия об Отрепьеве - ложь, а царевич Дмитрий - настоящий. Вскоре Лжедмитрий I воцарился на московском престоле и был признан, искренне или нет, истинным сыном Ивана Грозного.
После убийства Лжедмитрия I правительство Василия IV Шуйского вернулось к версии о том, что самозванец был Григорий Отрепьев, как к официальной. Такое положение дел сохранялось и при Романовых. Имя «Гришки (со времён Павла I - Григория) Отрепьева» сохранялось в перечне анафематствуемых, читаемых каждый год в Неделю православия, вплоть до царствования Александра II.
Уже многие современники (разумеется, в расчёт принимаются только те, кто считал Дмитрия самозванцем, а не настоящим царевичем) не были уверены в том, что Лжедмитрий I и Григорий Отрепьев - одно лицо. В историографии новейшего времени этот вопрос дискутируется с XIX в.
Решительным защитником отрепьевской версии выступил Н. М. Карамзин. Вместе с тем, например, Н. И. Костомаров возражал против отождествления самозванца с Отрепьевым, указывая, что по образованию, навыкам, поведению Лжедмитрий I напоминал скорее польского шляхтича того времени, а не костромского дворянина, знакомого со столичной монастырской и придворной жизнью. Кроме того, Отрепьева, как секретаря Патриарха Иова, московские бояре должны были хорошо знать в лицо, и вряд ли он решился бы предстать перед ними в образе царевича. Костомаров сообщает и еще одну интересную подробность из жизни Димитрия (Лжедмитрия I). Когда Лжедмитрий I наступал на Москву, то возил вместе с собой и всенародно в разных городах показывал лицо, называвшее себя Григорием Отрепьевым, тем самым разрушая официальную версию о том, что он тождественен Григорию.
Оба эти мнения воплощены в написанных в XIX веке драматических произведениях о Борисе Годунове; мнение Карамзина обессмертил А. С. Пушкин в пьесе «Борис Годунов», мнению Костомарова последовал А. К. Толстой в пьесе «Царь Борис».
В. О. Ключевский придерживался следующего мнения: «Важна не личность самозванца, а роль, им сыгранная, и исторические условия, которые сообщили самозванческой интриге страшную разрушительную силу».
Дискуссия между представителями обеих точек зрения активно продолжалась и в XX в.; были обнаружены новые сведения о семье Отрепьевых, которые, как утверждается сторонниками версии тождества этих персонажей, объясняют благожелательное отношение Лжедмитрия I к Романовым. Историк Руслан Григорьевич Скрынников придерживается мнения о тождестве личности Отрепьева и Лжедмитрия. В подтверждение этой гипотезы он приводит большое количество доказательств.
Период русской истории 1604-1613 годов, когда государство сотрясалось от внутренних неурядиц и иноземных вторжений, называют «смутным временем». Начало «смуте» положил человек, которого звали Гришкой Отрепьевым, но кто он был на самом деле, так и осталось тайной. В историю он вошел как Лжедмитрий I. В 1601 году в Польше появился молодой человек, который выдавал себя за царевича Дмитрия — сына Ивана Грозного. Он рассказывал, что в детстве «чудесно» спасся от подосланных Борисом Годуновым убийц, затем воспитывался у чужих людей, был монахом, но, боясь преследований, бежал за границу, а теперь хочет отвоевать свои права на престол. Польша, находившаяся в то время с Россией во враждебных отношениях, решила поддержать самозванца. Король выделил ему целый военный отряд, а Лжедмитрий в свою очередь обещал, что, став царем, уступит Польше Северскую и Смоленскую земли и введет в России католичество.
Осенью 1604 года самозванец, поддерживаемый польско-литовским военным отрядом, перешел границу и начал продвижение по России. Страна переживала тяжелые времена. Неурожаи, голод и помещичий гнет совершенно разорили крестьянство. Во всех бедах, конечно же, обвиняли Бориса Годунова. Поэтому Лжедмитрий повсюду встретил поддержку. К нему примкнули не только крестьяне и казаки из южных районов, но и горожане, служивые люди и даже феодалы, недовольные политикой нового царя. Войско самозванца росло, и он, захватив несколько областей, укрепился на юге страны, в Путивле. Для завоевания Москвы сил пока не хватало. Знающее, что к чему, правительство Бориса Годунова объявило народу, что самозванец — это расстрига, беглый монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев. Священники проклинали Гришку, но народ не верил властям и надеялся, что с приходом «доброго царя Дмитрия» жить станет лучше. Сам же Борис был уверен, что самозванца подготовили и переправили враждебные ему бояре.
Для отпора Лжедмитрию царь выслал армию, которая более-менее успешно отражала атаки самозванца. Положение резко изменилось после внезапной смерти Бориса в апреле 1605 года. Престол перешел к его сыну Федору, умному и способному юноше. Но правительство Годуновых оказалось бессильным перед дальнейшими событиями. Армия перешла на сторону Лжедмитрия, а 1 июня в Москве вспыхнуло народное восстание. Толпа ворвалась в Кремль. Вдова Бориса Годунова и царь Федор Борисович были арестованы и вскоре убиты, народу же было объявлено, что они отравили себя ядом. Затем спешно выкопали гроб царя Бориса и всю семью зарыли в убогом Варсонофьевском монастыре, что на Сретенке. Ныне прах Годуновых покоится в Троице-Сергиевой лавре. 20 июня 1605 года Лжедмитрий торжественно вступил в Москву и занял царский престол. Вызванная из ссылки мать царевича Дмитрия признала самозванца своим «сыном», что еще больше укрепило его положение.
Скорее всего ее к этому принудили. Став царем, Лжедмитрий пытался проводить самостоятельную политику и не торопился выполнять свои обещания Польше. Вскоре его отношения с королем ухудшились. В то же время самозванец допустил ряд ошибок, он плохо относился к русским обычаям, не соблюдал постов, делами управлял с помощью немногих любимцев, предавался разврату. Бояре, отстраненные от участия в управлении, затаили злобу. Самозванец был нужен им только для того, чтобы избавиться от самостоятельного Бориса, а теперь они ждали подходящего случая, чтобы убрать и его самого. В мае 1606 года Лжедмитрий женился на польке Марине Мнишек, которая не приняла православия, что вызвало недовольство в народе. К тому же прибывшие на свадьбу поляки вели себя по отношению к москвичам нагло и грубо, допускали бесчинства и насилия. Этим и воспользовались бояре во главе с князем Василием Шуйским. Заговорщики без труда натравили на поляков простой народ.
17 мая 1606 года, пока шли погромы польских жилищ, бояре обманным путем проникли в Кремль и убили Лжедмитрия, а его труп сожгли, пепел смешали с порохом и выстрелили из пушки в ту сторону, откуда он вступил в Москву.
Родители: Богдан Отрепьев;
ЛЖЕДМИТРИЙ I (ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ) (? — 1606х)
 Дети:
Нет.
Дети:
Нет.
Жена — Марина Мнишек (ок. 1588-1614+), дочь польского воеводы Юрия Мнишек, впоследствии — жена Лжедмитрия II.
Основные моменты жизни
Русский царь (1605-1606);
В 1602 году самозванно объявился в Польше под именем сына Ивана IV Грозного (1530-1584) — Дмитрия. В 1604 году с польско-литовскими отрядами перешел русскую границу. Был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. Став царем, пытался лавировать между русскими и польскими феодалами. Убит боярами-заговорщиками.
Примечание
Истории самозванства Смутного времени посвящена обширная литература. Первоначально все внимание историков было сосредоточено на вопросе о том, кто скрывался под личиной Лжедмитрия I. Большинство историков придерживалось мнения, что имя Дмитрия принял беглый чудовский монах Григорий Отрепьев. Но самый крупный знаток Смутного времени С.Ф.Платонов пришел к заключению, что вопрос о личности самозванца не поддается решению. Подводя итог, историк с некоторой грустью писал: "Нельзя считать, что самозванец был Отрепьев, но нельзя также утверждать, что Отрепьев им не мог быть: истина от нас пока скрыта" (Платонов С.Ф. Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия. Статья по русской истории, Спб, 1912г. с.276).
Столь же осторожной была точка зрения В.О.Ключевского, который отмечал, что личность неведомого самозванца остается загадосной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее; трудно сказать, был ли то Отрепьев или кто другой, хотя последнее менее вероятно. Анализируя ход Смуты, В.О.Ключевский с полным основанием утверждал, что важна была не личность замозванца, а роль, им сыгранная, и исторические условия, которые сообщили самозванческой интриге страшную разрушительную силу.
К.В.Чистов рассматривал самозванство в России "как проявление определенных качеств социальной психологии народных масс, ожидавших прихода "избавителя", их веры в "доброго" царя, способного защитить народ от притеснений "лихих бояр" и оградить его от социальной несправедливости.
Розыск о самозванце
Как отмечает Р.Г.Скрынников в указанной ниже книге, "неверно мнение, будто Годунов назвал самозванца первым попавшимся именем. Разоблачению предшествовало самое тщательное расследование, после которого в Москве объявили, что имя царевича принял беглый чернец Чудова монастыря Гришка, в миру — Юрий Отрепьев. Московские власти сконцентрировали внимание на двух моментах биографии Отрепьева: его насильственном пострижении и соборном осуждении "вора" в московский период его жизни. Но в их объяснениях по этим пунктам были серьезные неувязки".
Официальная версия излагалась в дипломатических наказах, адресованных польскому двору. В них значилось буквально следующее: Юшка Отрепьев, "як был в миру, и он по своему злодейству отца своего не слухал, впал в ересь, и воровал, крал, играл в зернью, и бражничал, и бегал от отца многажда, и заворовався, постригсе у черницы…". После пострижения он "отступил от бога, впал в ересь и в чорнокнижье, и призыване духов нечистых и отъреченья от бога у него выняли". Узнав об этих преступлениях, патриарх осудил его на пожизненное заключение в тюрьму.
Посольский приказ сфальсифицировал биографию Отрепьева в двух самых важных пунктах. Цели фальсификации предельно ясны. Важно было представить Отрепьева как одиночку, за спиной которого нет никаких серьезных сил, а заодно изобразить его изобличенным преступником, чтобы иметь основание потребовать от поляков выдачи "вора".
В действительности ситуация была гораздо опаснее и фактическая биография Отрепьева существенно отличается от приведенной версии.
Юрий Богданович Отрепьев родился на рубеже 70-80-х годов (примерно одного возраста с Дмитрием) в небогатой дворянской семье. Предки Отрепьевых выехали на службу в Москву из Литвы. Отец Юрия служил в стрелецких войсках и рано умер в чине стрелецкого сотника, воспитанием Юрия занималась мать. Учение давалось Юрию очень легко и его послали в Москву, где он поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову. При Борисе Годунове многие считали братьев Никитичей единственными законными претендентами на царский трон в качестве ближайших родственников — двоюродных братьев последнего царя из династии Рюриковичей.
За несколько лет службы Отрепьев занял при дворе Никитичей достаточно высокое положение. Это едва не погубило Юрия в тот момент, когда Романовых постигла царская опала в результате событий 1600 года.
В 1600 году здоровье Бориса Годунова резко ухудшилось и в городе по этому поводу поднялась большая тревога, была спешно созвана Боярская дума, на которую Годунова принесли на носилках.
Романовы, ожидая скорой кончины Бориса, собрали на своем подворье многочисленную вооруженную свиту. Стремясь пресечь возможный переворот, Годунов в ночь на 26 октября 1600 года послал несколько сот стрельцов к усадьбе Романовых. Дом был подожжен, оказавшие сопротивление были убиты, многие арестованы. Ближние слуги Романовых были казнены. Подобная участь ожидала и Отрепьева. Спасаясь "от смертные казни", двадцатилетний Юрий постригся в монахи под именем Григория и бежал в провинцию.
Григорий Отрепьев побывал в нескольких монастырях, но нигде подолгу не задерживался и очень скоро решил вернуться в столицу. По протекции своего деда Елизария Замятни Григорий был принят в аристократический московский Чудов монастырь. Вскоре Григория отличил архимандрит и перевел в свою келью, где Отрепьев занимался перепиской книг и получил чин дьякона. В штате писцов и помощников он присутствовал и на государевой думе.
Нет достоверных сведений о причинах и обстоятельствах побега Отрепьева в 1602 году за границу, во всяком случае версия об обличении Григория на соборе и осуждении на смерть за еретичество и чернокнижие родилась позднее, когда в Польше объявился самозванец, которого в Москве назвали Отрепьевым. Вполне вероятно, что завязка авантюры родилась в стенах Чудова монастыря, где Отрепьев мог узнать обстоятельства жизни и гибели в Угличе истинного Дмитрия. Кроме того, в Угличе жили ближайшие родственники Отрепьева.
Опасная игра
Маршрут бегства Григория через Киев в Польшу можно достаточно точно проследить по сведениям спутника Отрепьева — монаха Варлаама. Превращение бродячего монаха в царя произошло в районе г.Брачина. Самозванец далеко не сразу приноровился к избранной им роли, в которой впервые выступил, вероятно, в имении польского магната Адама Вишневецкого. Признание со стороны Вишневецкого, известного защитника православия, имело для Лжедмитрия неоценимое значение. Покровительство князя Адама сулило самозванцу большие выгоды, поскольку эта семья состояла в дальнем родстве с Иваном Грозным. Интрига вступила в новую фазу развития.
Из имения Вишневецкого Лжедмитрий ездил в Запорожскую Сечь, пытаясь привлечь на свою сторону казаков, но поддержки не получил. Однако запорожцы помогли установить связь с донскими казаками, которые немедленно отозвались на его обещания. Донцы были первыми в России, кто решительно заявил о поддержке "законного монарха".
В 1600 году Россия и Польша договор о перемирии на 20 лет. Военные планы Вишневецкого не получили поддержки коронного гетмана Замойского и большинства других сенаторов. Зато король Сигизмунд III давно вынашивал планы похода на восток. Его замыслы разделял сенатор Юрий Мнишек, связанный с влиятельными католическими кругами. Лжедмитрий решил порвать со своим православным покровителем и перебрался к Юрию Мнишеку в Самбор. Зная замыслы короля, Мнишек надеялся с помощью самозванца завоевать милость короля и поправить неважное финансовое положение. Он не только принял Лжедмитрия с царскими почестями, но и решил породниться с ним. Лжедмитрий сделал предложение его дочери Марине. Сватовство дало благовидный предлог для обращения самозванца в католичество. Обещания относительно перехода московского "царевича" в католичество усилили интерес Сигизмунда III к интриге.
Сигизмунд III согласился предоставить Лжедмитрию помощь на условиях значительных территориальных уступок и военной помощи Москвы для овладения шведской короной. Лжедмитрий обязался уступить Речи Посполитой Чернигово-Северскую и половину Смоленской землю.
Отрепьев, Григорий
Другая половина Смоленской земли была обещана Юрию Мнишек. Одним из условий был обязательный брак Лжедмитрия с подданной короля (имя Марины Мнишек упомянуто не было, но подразумевалось).
Выполнение Самборских обязательств Лжедмитрием I привело бы к расчленению России. Однако интересы собственного народа и государства мало заботили самозванца. Подобно азартному игроку, он думал лишь о ближайшей выгоде.
Путь к престолу
Воевода Мнишек набрал для будущего зятя небольшое войско из польских авантюристов, к которым присоединилось 2 тысячи малороссийских казаков и небольшой отряд донцов. С этими силами Лжедмитрий 15 августа 1604 года открыл поход, а в октябре перешел российскую границу.
Обаяние имени царевича Дмитрия и недовольство Годуновым сразу дали себя знать. Моравск, Чернигов, Путивль и др. города без боя сдались Лжедмитрию; держался только Новгород-Северский, где воеводой был П.Ф.Басманов. Пятидесятитысячное московское войско, под начальством Мстиславского на пришедшее на выручку этого города, было наголову разбито Лжедмитрием, хотя численность его войска была меньше более чем в 3 раза. Русские люди неохотно сражались против человека, которого в душе считали истинным царевичем.
Большинство поляков, недовольных задержкой платы, оставило в это время Лжедмитрия, но зато к нему явилось 12 000 казаков. В.И.Шуйский разбил 21 января 1605 года Лжедмитрия при Добрыничах, но затем московское войско занялось бесплодной осадой Рыльска и Кром, а тем временем Лжедмитрий, засевший в Путивле, получил новые подкрепления. Недовольный действиями своих воевод, Борис Годунов послал к войску П.Ф.Басманова, но тот уже не мог остановить разыгравшейся смуты. 13 апреля 1605 года внезапно умер царь Борис, а 7 мая все войско с Басмановым во главе, перешло на сторону Лжедмитрия.
20 июня Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. Провозглашенный перед тем царем Федор Борисович Годунов еще раньше был убит посланными Лжедмитрием, вместе со своей матерью, а уцелевшую сестру его, Ксению, Лжедмитрий сделал своей наложницей; позднее она была пострижена.
Через несколько дней после въезда Лжедмитрия в Москву обнаружились замыслы бояр против него. В.И.Шуйский был уличен в распускании слухов о самозванстве нового царя и, отданный Лжедмитрием на суд собора, состоявшего из духовенства, бояр и простых людей, приговорен к смертной казни. Однако под давлением боярской думы Лжедмитрий заменил казнь ссылкой братьев Шуйских в галицкие пригороды, а затем, вернув их с дороги, простил совершенно, возвратив им имения и боярство. Патриарх Иов был низложен и на его место был возведен архиепископ рязанский, грек Игнатий, который 21 июля и венчал Лжедмитрия на царство.
Правление и гибель
Как правитель Лжедмитрий, согласно всем современным отзывам, отличался недюжинной энергией, большими способностями, широкими реформаторскими замыслами и крайне высоким понятием о своей власти.
Отступления от старых обычаев, которые допускал Лжедмитрий, и явная любовь Лжедмитрия к иноземцам раздражали некоторых ревнителей старины среди приближенных царя, но народные массы относились к нему доброжелательно и москвичи сами избивали немногих, говоривших о самозванстве Лжедмитрия. Он погиб исключительно вследствие боярского заговора, возглавляемого В.И.Шуйским.
Удобный повод заговорщикам доставила свадьба Лжедмитрия. Еще 10 ноября 1605 года в Кракове состоялось обручение, а 8 мая 1606 года совершился и брак Лжедмитрия с Мариной Мнишек. Воспользовавшись раздражением москвичей против поляков, наехавших в Москву с Мариной и позволявших себе разные бесчинства, заговорщики в ночь с 16-го на 17-е мая, ударили в набат и объявили сбежавшемуся народу, что ляхи бьют царя. Направив толпы на поляков, сами заговорщики прорвались в Кремль. Захваченный врасплох, Лжедмитрий пытался сначала защищаться, затем бежал к стрельцам, но стрельцы выдали его и он был застрелен. Народу объявили, что, по словам царицы Марфы, Лжедмитрий был самозванец. Тело его сожгли и, зарядив прахом пушку, выстрелили в ту сторону, откуда он пришел.
Народ, особенно в провинции, не желал верить в смерть "доброго законного" царя. Толки о том, что он спасся от "лихих" бояр не прекращались ни на один день. Массовые восстания на южной окраине государства положили начало новому этапу гражданской войны, появились новые самозванцы. Наиболее известным из них является Лжедмитрий II.
См. также "Самозванство в России".
Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев
. Новосибирск, "Наука", 1990.
Алексеев Н.Н. Лжецаревич
. М., "Армада", 1995.
Тумасов Б.Е. Лихолетье
. М., "Армада", 1995.
Григорий Отрепьев (мирское имя и отчество - Юрий Богданович , «полуимя» - Гришка Отрепьев ) - монах, дьяк Чудова монастыря (в московском Кремле), одно время выполнял секретарские обязанности при патриархе Иове. Сын галичского дворянина Богдана Отрепьева.
Биография григорий отрепьев
Был близок к семейству бояр Романовых, служил у Михаила Никитича. Около 1601 года бежал из монастыря. По распространённой версии, именно Григорий Отрепьев впоследствии выдавал себя за царевича Дмитрия и взошёл на русский престол под именем Дмитрия I.
Установленные факты
Отрепьев принадлежал к небогатому роду Нелидовых, один из представителей которого, Давид Фарисеев, получил от Ивана III нелестную кличку Отрепьев. Считается, что Юрий был на год или два старше царевича. Отец Юрия, Богдан, имел поместье в Галиче (Костромская волость) недалеко от Железно-Боровского монастыря, величиной в 400 четей (около 40 гектаров) и 14 рублей жалования за службу сотником в стрелецких войсках. Имел двоих детей - Юрия и его младшего брата Василия. Для того чтобы прокормить семью и обеспечить, как ему было предписано по должности, коня с саблей, пару пистолей и карабин, а также одного холопа с пищалью и долгою, которого он был обязан полностью снарядить за свой счёт. Доходов, вероятно, не хватало, так как Богдан Отрепьев вынужден был арендовать землю у Никиты Романовича Захарьина (деда будущего царя Михаила), чье имение находилось тут же по соседству. Погиб он очень рано, в пьяной драке, зарезанный в Немецкой слободе неким «литвином», так что воспитанием сыновей занималась его вдова.
Ребёнок оказался весьма способным, легко выучился чтению и письму, причем успехи его были таковы, что решено было отправить его в Москву, где он в дальнейшем поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову. Здесь он опять же показал себя с хорошей стороны и дослужился до высокого положения - что едва не погубило его во время расправы с «романовским кружком». Спасаясь от смертной казни, он постригся в монахи в том же монастыре Железный Борок под именем Григория. Однако простая и непритязательная жизнь провинциального монаха его не привлекала, часто переходя из одного монастыря в другой, он в конечном итоге возвращается в столицу, где по протекции своего деда Елизария Замятни, поступает в аристократический Чудов монастырь. Грамотного монаха вскоре замечает архимандрит Пафнутий, затем после того, как Отрепьев составил похвалу московским чудотворцам, он делается «крестовым дьяком» - занимается перепиской книг и присутствует в качестве писца в «государевой Думе»..
Именно там, если верить официальной версии, выдвинутой правительством Годунова, будущий претендент начинает подготовку к своей роли; сохранились свидетельства чудовских монахов, что он расспрашивал их о подробностях убийства царевича, а также о правилах и этикете придворной жизни. Позже, опять же если верить официальной версии, «чернец Гришка» начинает весьма неосмотрительно хвалиться тем, что когда-нибудь займёт царский престол. Похвальбу эту ростовский митрополит Иона доносит до царских ушей, и Борис приказывает сослать монаха в отдалённый Кириллов монастырь, но дьяк Смирной-Васильев, которому было это поручено, по просьбе другого дьяка Семёна Ефимьева отложил исполнение приказа, потом же совсем забыл об этом, пока неизвестно кем предупреждённый Григорий бежит в Галич, затем в Муром, в Борисоглебский монастырь и далее - на лошади, полученной от настоятеля, через Москву в Речь Посполитую, где и объявляет себя «чудесно спасшимся царевичем».
Проблема отождествления
Когда в 1604 году самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия (Лжедмитрий I), перешёл русскую границу и начал войну против Бориса Годунова, правительство Бориса официально объявило, что под именем царевича скрывается беглый монах, расстрига Гришка Отрепьев. Григорию была объявлена анафема. Узнав об этом, Лжедмитрий в некоторых занятых им городах показывал народу человека, который утверждал, что он и есть Григорий Отрепьев, а тот, кто выдаёт себя за Дмитрия - не Отрепьев, а истинный царевич. По некоторым данным, роль Отрепьева играл другой монах, «старец» Леонид (старцами в то время называли монахов не обязательно пожилого возраста).
Лжедмитрий I
Установленные факты
Юрий (в иночестве - Григорий) Отрепьев принадлежал к знатному, но обедневшему роду Нелидовых, выходцев из Литвы, один из представителей которого, Давид Фарисеев, получил от Ивана III нелестную кличку Отрепьев. Считается, что Юрий был на год или два старше царевича. Отец Юрия, Богдан, имел поместье в Галиче (Костромская волость) недалеко от Железно-Боровского монастыря, величиной в 400 четей (около 40 гектар) и 14 рублей жалования за службу сотником в стрелецких войсках. Имел двоих детей - Юрия и его младшего брата Василия. Для того чтобы прокормить семью, и обеспечить, как ему было предписано по должности, коня с саблей, пару пистолей и карабин а также одного холопа с пищалью з долгою, которого он был обязан полностью снарядить за свой счёт, доходов, вероятно, не хватало, так как Богдан Отрепьев вынужден был арендовать землю у Никиты Романовича Захарьина (деда будущего царя Михаила), чье имение находилось тут же по соседству. Погиб он очень рано, в пьяной драке, зарезанный в Немецкой слободе неким «литвином», так что воспитанием сыновей занималась его вдова. Ребёнок оказался весьма способным, легко выучился чтению и письму, причем успехи его были таковы, что решено было отправить его в Москву, где он в дальнейшем поступил на службу к Михаилу Никитичу Романову. Здесь он опять же, показал себя с хорошей стороны, и дослужился до высокого положения - что едва не погубило его во время расправы с «романовским кружком». Спасаясь от смертные казни он постригся в монахи в том же монастыре Железный Борок под именем Григория. Однако, простая и непритязательная жизнь провинциального монаха его не привлекала, часто переходя из одного в другой, он в конечном итоге возвращается в столицу, где по протекции своего деда Елизария Замятни, поступает в аристократический Чудов монастырь. Грамотного монаха вскоре замечает архимандрит Пафнутий, затем после того, как Отрепьев составил похвалу московским чудотворцам, он делается «крестовым дьяком» - занимается перепиской книг и присутствует в качестве писца в «государевой Думе»..
Именно там, если верить официальной версии, выдвинутой правительством Годунова, будущей претендент начинает подготовку к своей роли; сохранились свидетельства чудовских монахов, что он расспрашивал их о подробностях убийства царевича, а также о правилах и этикете придворной жизни. Позже, опять же если верить официальной версии, «чернец Гришка» начинает весьма неосмотрительно хвалиться тем, что когда-нибудь займёт царский престол. Похвальбу эту ростовский митрополит Иона доносит до царских ушей, и Борис приказывает сослать монаха в отдалённый Кириллов монастырь, но дьяк Смирной-Васильев, которому было это поручено, по просьбе другого дьяка Семёна Ефимьева отложил исполнение приказа, потом же совсем забыл об этом, пока неизвестно кем предупреждённый Григорий бежит в Галич, затем в Муром, в Борисоглебский монастырь и далее - на лошади, полученной от настоятеля, через Москву в Речь Посполитую, где и объявляет себя «чудесно спасшимся царевичем».
Отмечается, что бегство это подозрительно совпадает со временем разгрома «романовского кружка», также замечено, что Отрепьеву покровительствовал кто-то достаточно сильный, чтобы спасти его от ареста и дать время бежать. Сам Лжедмитрий, будучи в Польше, однажды оговорился, что ему помог дьяк Василий Щелкалов, также подвергшийся затем гонению от царя Бориса.
Проблема отождествления
Когда в 1604 году самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия (Лжедмитрий I) перешёл русскую границу и начал войну против Бориса Годунова, правительство Бориса официально объявило, что под именем царевича скрывается беглый монах, расстрига Гришка Отрепьев. Григорию была объявлена анафема. Узнав об этом, Лжедмитрий в некоторых занятых им городах показывал народу человека, который утверждал, что он и есть Григорий Отрепьев, а тот, кто выдаёт себя за Дмитрия - не Отрепьев, а истинный царевич. По некоторым данным, роль Отрепьева играл другой монах, «старец» Леонид (старцами в то время называли монахов не обязательно пожилого возраста).
Правительство Фёдора Годунова в связи с этим внесло (апрель 1605 г.) в формулу присяги царю отказ от поддержки «тому, кто именует себя Дмитрием» - а не «Отрепьеву». Это вызвало у многих уверенность в том, что версия об Отрепьеве - ложь, а царевич Дмитрий - настоящий. Вскоре Лжедмитрий I воцарился на московском престоле и был признан, искренне или нет, истинным сыном Ивана Грозного.
После убийства Лжедмитрия I правительство Василия IV Шуйского вернулось к версии о том, что самозванец был Григорий Отрепьев, как к официальной. Такое положение дел сохранялось и при Романовых. Имя «Гришки (со времён Павла I - Григория) Отрепьева» сохранялось в перечне анафематствуемых, читаемых каждый год в Неделю православия, вплоть до царствования Александра II.
Уже многие современники (разумеется, в расчёт принимаются только те, кто считал Дмитрия самозванцем, а не настоящим царевичем) не были уверены в том, что Лжедмитрий I и Григорий Отрепьев - одно лицо. В историографии новейшего времени этот вопрос дискутируется с XIX в. Решительным защитником отрепьевской версии выступил Н. М. Карамзин. Вместе с тем, например, Н. И. Костомаров возражал против отождествления самозванца с Отрепьевым, указывая, что по образованию, навыкам, поведению Лжедмитрий I напоминал скорее польского шляхтича того времени, а не костромского дворянина, знакомого со столичной монастырской и придворной жизнью. Кроме того, Отрепьева, как секретаря Патриарха Иова, московские бояре должны были хорошо знать в лицо, и вряд ли он решился бы предстать перед ними в образе царевича.
Оба эти мнения воплощены в написанных в XIX веке драматических произведениях о Борисе Годунове; мнение Карамзина обессмертил А. С. Пушкин в пьесе «Борис Годунов», мнению Костомарова последовал А. К. Толстой в пьесе «Царь Борис».
В. О. Ключевский придерживался следующего мнения: «Важна не личность самозванца, а роль, им сыгранная, и исторические условия, которые сообщили самозванческой интриге страшную разрушительную силу».
Дискуссия между представителями обеих точек зрения активно продолжалась и в XX в.; были обнаружены новые сведения о семье Отрепьевых, которые, как утверждается сторонниками версии тождества этих персонажей, объясняют благожелательное отношения Лжедмитрия I к Романовым. Историк Руслан Григорьевич Скрынников придерживается мнения о тождестве личности Отрепьева и Лжедмитрия. В подтверждение этой гипотезы он приводит большое количество доказательств.
«Произведем несложный арифметический подсчёт. Отрепьев бежал за рубеж в феврале 1602 г., провёл в Чудове монастыре примерно год, то есть поступил в него в самом начале 1601 г., а надел куколь незадолго до этого, значит, он постригся в 1600 году. Цепь доказательств замкнулась.
Григорий Отрепьев
В самом деле, Борис разгромил бояр Романовых и Черкасских как раз в 1600 году. И вот ещё одно красноречивое совпадение: именно в 1600 году по всей России распространилась молва о чудесном спасении царевича Дмитрия, которая, вероятно и подсказала Отрепьеву его роль».
«По-видимому, Отрепьев уже в Киево-Печерском монастыре пытался выдать себя за царевича Дмитрия. В книгах Разрядного приказа находим любопытную запись о том, как Отрепьев разболелся „до умертвия“ и открылся печерскому игумену, сказав, что он царевич Дмитрий».
Григорий Отрепьев – один из самых загадочных персонажей Смутного времени. Именно этот человек по убеждению ряда современников и историков выдавал себя за погибшего сына Ивана Грозного и стал известен как Лжедмитрий І. Его биография представляет собой набор во многом спорных фактов, поэтому для начала ознакомимся с её официальной трактовкой, а затем перейдем к аргументам сторонников и критиков общеизвестной версии.
Предположительно Григорий Отрепьев на гравюре неизвестного времени
Первое заявление о том, что человек, выдающий себя за царевича Дмитрия, это беглый монах Григорий Отрепьев, прозвучало от правительства . Официальная версия гласила, что по происхождению Гришка был сыном галичского дворянина Богдана Отрепьева. Соответственно в миру он был известен как Юрий Богданович Отрепьев.
Имя Григорий было получено после пострига. Постригся он по причине «буйного и беспутного поведения». Тем не менее, Григорий стал дьяком Чудова монастыря в Кремле и некоторое время даже служил секретарем патриарха Иова. Позже Григорий бежал из монастыря в Литву.
Стоит отметить, что вышеописанную версию Годунов предложил польскому двору. Как известно, именно на территории Речи Посполитой самозванец впервые объявил себя погибшим царевичем. По этой причине его считали авантюристом на польской службе.
Несколько другие объяснения были предложены венскому двору. В личном послании императору Габсбургов Борис писал, что Отрепьев был одним из холопов Михаила Романов, но бежал и постригся в монахи. Напомним, что Романовы были главными соперниками Годунова в борьбе за престол. О том, что Отрепьев был беглым холопом Романова, позже во всеуслышание объявил патриарх Иов.
Интересно, что после того как правительство Годунова сделало официальное заявление о личности самозванца, Лжедмитрий начал показывать народу человека, утверждавшего, что он и есть Григорий Отрепьев. После трагического завершения правления Лжедмитрия I правительство вернулось к версии о том, что он был Гришкой Отрепьевым. Его имя сохранялось в числе анафематствуемых вплоть до времен Александра II.
Шуйский, правда, уточнил, что Отрепьев служил у бояр Микитиных, а затем у князя Черкасова. Будущий самозванец «заворовался и постригся в ченцы». Как бы там ни было, но многие исследователи считают службу Отрепьева у бояр романовского круга подлинным фактом.
След реального Отрепьева теряется на пути от границы с Литвой до Острога. На том же самом пути и в то же самое время впервые обнаруживается Лжедмитрий I. Первые попытки самозванца получить поддержку православного духовенства в Литве потерпели неудачу. Тем не менее, он не остался без посторонней помощи, а нашел покровителей в лице польских и литовских магнатов.
Аргументы сторонников официальной версии
Известный специалист по истории России 16-17 веков Р. Скрынников отмечал, что московские власти объявили Лжедмитрия Отрепьевым не на пустом месте, а на основания данных расследования. Но базе показаний родственников Григория были собраны подробные сведения о его похождениях.
Упомянутый историк отмечает, что родовое гнездо Отрепьевых располагалось рядом с селом Домнино, костромской вотчиной Романовых. Это объясняет, почему молодой провинциальный дворянин оправился на их московское подворье. Происхождение давало ему возможность надеяться на должность конюшего или дворецкого. Но после начала преследований против Романовых Отрепьева ждала тяжелая участь. Страх перед казнью привел молодого дворянина в монастырь.
Косвенно тождество самозванца и Отрепьева подтверждают автографы Лжедмитрия. Палеографический анализ писем последнего показал, что Лжедмитрий был великороссом, плохо знавшим польский язык, но свободно писавшим по-русски. Почерк его имел особенности, характерные для московских приказных канцелярий, что объясняет, почему патриарх взял его к себе в качестве секретаря.
Официальная версия нашла яркое воплощение в пьесе Пушкина «Борис Годунов». Она также описана в трагедии А. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» и одноименном романе Ф. Булгарина.
Аргументы противников официальной версии
Многие современники сомневались, что Отрепьев и Лжедмитрий – одно лицо. Исторические исследования указывают на многочисленные неувязки в жизнеописаниях Отрепьева.
Одним из первых историков, выступивших с критикой официальной версии, стал Н. Костомаров. Он отмечал, что по образованию и поведению Лжедмитрий больше напоминал польского шляхтича, чем дворянина, знакомого с монастырской и придворной жизнью в Москве. По его мнению, Отрепьева, как секретаря патриарха, должны были хорошо знать в лицо. Интересно, что в пьесе «Царь Борис» А. Толстой поддержал мнение Костомарова.
В. Ключевский отмечал, что люди, обвинявшие Лжедмитрия в самозванстве, не были казнены, а для авантюриста подобные решения были весьма рискованны. Мало того, он вернул им боярские чины. Ряд современных исследователей также отмечает, что у воцарившегося Лжедмитрия не было ничего от «буйного молодого пьяницы с монастырским образованием».
Большинство исследователей в целом поддерживают официальную версию, но лишь по той причине, что нет информации, достаточной для её опровержения.
ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ
ЛЖЕДМИТРИЙ I - ЦАРЬ МОСКОВСКИЙ
с 1605 по 1606 г.
Первый русский самозванец
«Происхождение этого лица, равно как история его появления и принятия на себя имени царевича Дмитрия, сына Иоанна Грозного, остаются до сих пор весьма тёмными и вряд ли даже могут быть вполне разъяснены при настоящем состоянии источников. Правительство Бориса Годунова, получив известие о появлении в Польше лица, назвавшегося Дмитрием, излагало в своих грамотах его историю следующим образом. Юрий или Григорий Отрепьев, сын галицкого сына боярского, Богдана Отрепьева, с детства жил в Москве в холопах у бояр Романовых и у князя Бориса Черкасского; затем, навлекши на себя подозрение царя Бориса, он постригся в монахи и, переходя из одного монастыря в другой, попал в Чудов монастырь, где его грамотность обратила внимание патриарха Иова, взявшего его к себе для книжного письма; похвальба Григория о возможности ему быть царём на Москве дошла до Бориса, и последний приказал сослать его под присмотр в Кириллов монастырь. Предупреждённый вовремя, Григорий успел бежать в Галич, потом в Муром, и, вернувшись вновь в Москву, в 1602 г. бежал из неё вместе с неким иноком Варлаамом в Киев, в Печерский монастырь, оттуда перешёл в Ост рог к князю Ал. Вишневецкому, которому впервые и объявил о своём якобы царском происхождении». Так писала о Григории Отрепьеве энциклопедия Брокгауза и Ефрона в1889 году.
В последние годы CC века большую работу по выявлению родословной рода Отрепьевых провёл А. Авдеев.
Родоначальником рода Отрепьевых считается некий воин Владислав Нелидовский из Нильска, который сражался на Куликовом поле в составе дружины, которую возглавлял второй сын Великого князя Литовского Ольгерда – Дмитрий. В своё время отец (один из главных противников Москвы) вручил Дмитрию под управление Брянск и Трубчевск, но тот накануне Мамаева побоища перешёл на службу к Дмитрию Донскому вместе с дружиной. Ещё раньше в Москву перебрался старший брат Димитрия Ольгердовича – Андрей, в 1377 г. лишённый Великим князем Литовским Ягайлой Полоцкого княжения. Это про них сказал проникновенные слова Софрония Рязанец – автор «Задонщины»: «То бо суть сынове храбры, кречеты в ратном времени и ведомы полководцы, под трубами повити, под шеломы възлелеяны, конец копия вскормлены, с вострого меча поены в Литовской земли».
Владислав Нелидовский уцелел в грозной сече с Мамаем. После победы он принял Православие с именем Владимир и перешел на службу к Дмитрию Донскому, был пожалован поместьем – деревней Никольской, которая находилась в Боровском уезде. По своему имени он назвал деревню Нелидовой. Впоследствии она перешла в собственность Пафнутьева-Боровского монастыря. С тех пор его потомки верой и правдой служили Москве.
Небезынтересно отметить, что современником Владислава-Владимира был преподобный Паисий Галичский. Согласно преданию, он пришёл в Галич «с далёкого юга», как полагал П.П. Свиньин, очевидно опиравшийся на недошедшие до нас источники, из Полоцка. Может быть, подвижник, будучи служилым человеком, покинул родные места вместе с Андреем Ольгердовичем, участвовал в Куликовской битве, затем принял постриг и около 1385 г. подвизался в Николаевском Монастыре близь Галича? Такой вариант начальной биографии преподобного вполне вероятен.
Правнук Владимира – Давид Фарисеев (его отец имел прозвище Фарес) – был назван великим князем Иваном III «по прилучью» (то есть по какому-то неизвестному для нас поводу) Отрепьевым. Отрепье, согласно словарю В.И. Даля, тряпьё, ветошь, лохмотье, обноски, отреповато ходить – ходить неопрятно. Видимо, неважно шли дела у служилого человека, если он рискнул появиться на глаза главе государства в столь затрапезном виде. Это прозвище закрепилось за младшим сыном Давида Иваном, который с тех пор стал называться Отрепьевым. Сыновья Ивана Игнатий и Иван, были направлены на службу в Углич, а Матвей, прадед будущего самозванца, получил поместье в Галиче. Так одна из ветвей рода Отрепьевых стала числиться галичскими дворянами. И. Видимо по Божиему Промыслу, самому известному её представителю – Григорию – пришлось соединить в своей личности все места, где служили его предки – Литву, куда он бежал и где нарекся царевичем Димитрием, Углич, где был убит невинный царевич, и Галич, откуда он сам был родом.
Сын Матвея Ивановича, Елизарий Замятьня имел поместья в галичском уезде и под Коломной. Ему удалось сделать неплохую карьеру – недаром в конце жизни он принял постриг в московском Чудовом монастыре, где обычно проводили остаток жизни представители высших слоёв русского общества.
У Елизария Матвеича было четыре сына – Никита-Смирной, Ефтифей-Пётр, Тихон-Лукьян и Богдан-Яков, которые вначале служили по Коломне, а затем – по Галичу.
Отец будущего самозванца – Богдан с 50-х годов C U I века имел поместье недалеко от Железно-Боровского монастыря. В поместный оклад – вознаграждение за службу – ему полагалось 400 четей (около 40 га.) земли и 14 руб. в год. За это он был обязан являться на службу «на коне с саблей, пара пистолей и карабин». С ним в войске обязан был находиться «человек… с пищалью з долгою», которого он полностью обеспечивал питанием и вооружением.
Небольшой размер поместья не мог полностью обеспечить потребности отца самозванца. Поэтому он нашёл себе покровителей. По соседству с его имением находились владения Никиты Юрьевича, предка Романовых, у которого Богдан арендовал земли, но это означало, что Богдан Елизарьевич опустился на ступеньку ниже в системе феодальной иерархии, то есть стал не дворянином «по прибору» (то есть по вызову на военную службу), а сыном боярским, - человеком, который находится под покровительством знатного боярского рода.
Это же звание унаследовал и его сын Юрий (в иночестве Григорий) – будущий самозванец, который первоначально попытался сделать карьеру, поступив на службу к Романовым. Однако, во время опалы на них со стороны Бориса Годунова, был вынужден бежать в родные места и принять постриг в Железно-Боровском монастыре.
Богдан Елизарьевич сумел дослужиться до стрелецкого сотника в Москве. Но его карьера неожиданно оборвалась – в Немецкой слободе он был зарезан в пьяной драке с неким литовцем. В Галиче на руках Богдановой вдовы остались двое малолетних сыновей – старший Юрий и младший Василий.
Когда слухи о самозванчестве Григория Отрепьева достигли Бориса Годунова, в Москву были вызваны его мать и брат, которые принародно свидетельствовали о том, что «чудно спасшийся» царевич Димитрий на самом деле является галичским дворянином. То же засвидетельствовал и дядя Григория – Никита Смирной. И всё же этим, в сущности, безвинным людям, не удалось избежать царской кары только за то, что они – ближайшие родственники самозванца. По приказу Бориса Годунова всех их отправили «в разные сибирские города в ссылку». Как позднее признавались уцелевшие в годы Смуты Отрепьевы, все их дома, поместья и вотчины были разорены «до конца», жалованные грамоты великих князей, служившие доказательством их верной службы, разграблены, а сами они «всякую ссылочную нужду от него, вора, за обличие терпели». Неудивительно, что писцовая книга 1619 года даже не упоминает двора Отрепьевых.
Оказавшись на престоле, Григорий Отрепьев даже не вспомнил о пострадавших родственниках, да и нельзя было ему вспоминать, дабы не напомнить лишний раз о своём самозванчестве.
За безвинных страдальцев вступился новый царь – Василий Шуйский, который всеми стремился укрепить народное мнение в самозванчестве Лжедмитрия. Царь признал невинность Отрепьевых – ведь они «в Смутное время, будучи… на Москве в осаде сидели и служили им, государям, верно и непоколебимо поборали по православной христианской вере, а ложно нарекшимся царскими имяны вором, никому креста не целовали и не к какому воровству не приставали, и в измене не были».
В Галич Отрепьевы вернулись не сразу. Селиться на старых местах они начали только тогда, когда память о событиях Смутного времени стала понемногу забываться, - при втором царе из династии Романовых, Алексее Михайловиче. Однако имя Григория тяготело над ними как проклятие. Отрепьевы жаловались царю, что, несмотря на столетия верной службы, «от всех людей принимают понос и укоризно больше 60 лет внапрасне за их прозвище для воровства Гришки Отрепьева». Царь внял просьбе служилых людей. Именным указом от 9 мая 1671 года (это было своеобразное исключение, так как подобные дела обычно проходили через Боярскую Думу) он «указал писатца прежним прозванием по выезду Нелидовыми». Под этой фамилией (бывшие) Отрепьевы и были внесены в Родословец – официальный справочник служилых родов России.
Так начался новый этап в истории рода Отрепьевых, отныне именовавшихся Нелидовыми. Самозванец Гришка в Родословец, естественно, не попал.
А. Авдеев – «Отрепьевы», «Галичские известия» от 08.08.1996 г.
В. Лапшин – «Его нам не забыть», «Галичские известия» №100 (10288) от 07.09.1999 г.
Брокгауз и Ефрон - «Энциклопедия», электронные книги, товарный знак Дискавери 1М, ООО «ИДДК Групп», Москва, 2003 г.