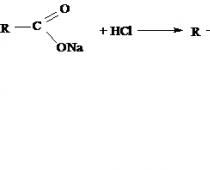Артивизм и акционизм June 6th, 2011
Говоря о творчестве активистских художественных групп нулевых (Агенда, Аффинити, Бабушка после похорон, Бомбилы, Война, Овощам.Нет, ПГ, Что делать) в сравнении с тем что делали московские акционисты девяностых (Бренер, Кулик, Мавроматти, Осмоловский) можно констатировать, что искусство стало более политизированным и интерактивным.
Аффинити групп, 2010. "Нацисты едят шаверму тайком"
Если раньше мы видели художника чьи высказывания порождают социальные и политические смыслы, то теперь мы имеем дело с достаточно законспирированными командами политиков и социальных технологов пользующихся художественными средствами. Это новое для России культурное явление предложено назвать артивизмом. Этот термин удобно использовать для обозначения художественного активизма второй половины нулевых.
В этой заметке предпринимается попытка обозначить различия между московским акционизмом девяностых и артивизмом нулевых.
Политика
Важнейшим лейтмотивом творчества акционистов девяностых было выживание. Собачьи перформансы Олега Кулика были убедительной метафорой положения в котором очутился советский человек после шоковых неолиберальных реформ - образ выброшенной на улицу домашней собаки.
Александр Бренер, Олег Кулик, 1994. "Последнее табу охраняемое одиноким Цербером"
Но создавая метафоры происходящего в стране, художники-акционисты не ставили перед собой политических целей, а выражали экзистенциальные состояния в диапазоне от эйфории до полного отчаяния, включая мазохизм, богоборчество и т.д.
Возможно, наиболее репрезентативной акцией девяностых является совместная акция Александра Бренера и Олега Кулика «Последнее табу охраняемое одиноким Цербером», когда Кулик бросался на прохожих и машины, а Бренер выкрикивал «В бездарной стране!». Манифестируемый смысл этой акции был защита искусства, которое и есть то самое последнее Табу которое одинокий Цербер вызвался охранять в нашей многострадальной стране которую якобы только искусство может спасти от бездарности и пр. бед. Комментируя правда, не эту акцию, а скандал на Интерполе Славой Жижек сказал, что подобным образом художники манифестируют свое право на трансгрессию. Трансгрессию художественного жеста.
Антон Николаев, 1993, "Лозунг"
Ретроспективно понятно, что таким образом московский акционизм очертил свой горизонт в политическом. Охрана границ искусства - единственная внятная политическая стратегия акционистов девяностых. Артивисты же начали свой путь в социум как открытый космос с того места, где остановились акционисты послушно вняв императиву «невлипания» в политику, который они некритично приняли от предыдущего поколения художников-концептуалистов.
Что касается стратегий артивизма, то уже сейчас определился достаточно широкий спектр от «когнитивного терроризма» «Войны» и Лоскутова, обессмысливающего идеологические и пропагандистские машины с применением стратегий subversive affirmation, до позитивных социальных стратегий, постановки конкретных политических целей: децентрализация страны и развитие регионов у «Бомбил», защита меньшинств и социально уязвимых групп (Евгений Флор, московская «Война»), построение коммунизма («Что делать?») и т.д.
Внеправительственная комиссия, 1998. "Против всех"
Важно отметить, что на рубеже девяностых и нулевых было предпринято несколько попыток создать искусство близкого к современному артивизму: несколько инициатив Анатолия Осмоловского (Радек, Внеправительственная комиссия, Против всех) и «(Московский Союз Радикальных Художников)» Евгения Флора. Но, к сожалению, из-за жестких преследований со стороны ФСБ все эти начинания обрывались. Артивистов, заметим, это уже не пугает. Про Флора несколько лет не было слышно. Осмоловский же публично отказался от политического акционизма и занялся пропагандой высокого модернизма. Сейчас он ездит на Селигерский форум и обвиняет сидящих в тюрьме артивистов в том, что они не художники.
Важно отметить, что акционисты девяностых редко заявляли о своей оппозиционности. Они склонны были воспринимать ельцинских либеральных реформаторов как союзников. Артивисты однозначно противостоят «кровавому путинскому режиму» и ставят перед собой цель его демонтировать, используя любые ненасильственные методы.
Проблема языка
Важным мотивом акционистов было создание нового языка в ситуации безъязычия, невнятности окружающей ситуации, слишком новой и неожиданной, чтобы сориентироваться лингвистически. Огромные усилия тратились на создание дискурсивной упаковки. Создавался язык, на котором можно было бы говорить о том, о чем в русской традиции не говорили. В частности об акционизме. Во многом это было определено необходимостью вписываться в западный контекст, во многом в традицию, заложенную предшествующим поколением художников-концептуалистов.
Бомбилы, 2007. "Лозунг"
Сейчас эти попытки кажутся наивными, а искусствоведческие тексты тех времен ужасно перегруженными и скучными. Судя по всему, примерно такими же они казались и большинству читателей газеты «Сегодня» (главного рупора совриска 90-х), которые при покупке газеты вынимали страничку раздела «Культура» и отправляли ее в мусорный ящик не читая. «Художественный журнал» до широкой публики не доходил, но читать его было мучительно даже участникам художественного процесса.
Современные артивисты (возможно, за исключением «Что делать?», которые тратят кучу времени и усилий на создание и поддержание декоративного левого дискурса) отказываются от создания собственных языков, экспроприируя языки тех социальных сред и медиа, то есть областей социума как открытого космоса, куда артивистов постоянно сносит.
Действия артивистов стремятся к тому чтобы быть политическими жестами. Языки, на которых они разговаривают - политизированные пиджины интуитивно понятные представителям самого широкого спектра политических и социальных групп. О связях с искусством девяностых напоминает лишь чуть уловимый акцент.
Традиция
Главная заслуга акционистов девяностых в том, что они начав с нуля, сделали этот невиданный способ художественного действия востребованным и интересным социуму. С артистическими экспериментами русских авангардистов начала века был слишком большой разрыв, чтобы можно было бы говорить о корнях. Я бы сказал, что появление акционизма из стихийного жеста покойного Гриши Гусарова и теперешнего завсегдатая Селигера Анатолия Осмоловского, которые тогда за несколько месяцев до развала совка вытащили своих товарищей на Красную площадь, чтобы выложить своими телами три буквы «ХУЙ» напротив мавзолея. Олег Кулик помогал в организации акции. Это важное для начала девяностых событие разбудило Александра Бренера и Олега Мавроматти.
ЭТИ, 1991, "Эти-текст"
Видимо, акционизм вообще возникает в бурные периоды истории. Стоит вспомнить всплески юродствования в период реакционного русского возрождения (термин Вадима Кожинова) или артистические эксперименты русского авангарда, рожденного в революционных бурях. Но как бы то не было, акционисты девяностых не соотносились с предыдущими эпохами. Артивисты уже имели и развивали традицию заложенную московским акционизмом и находят подобные явления в истории и соотносятся с ними. Когда мы с «Войной» жили в подвале на ул.Свободы и обсуждали готовящиеся акции частыми аргументами были «Бренер (Мавроматти, Кулик, Осмоловский) сделал бы так».
Роль терроризма
Уничтожение двух башен мусульманскими террористами Всемирного Торгового центра резко сменил оптику восприятия современного искусства в мире. Если раньше художник использующий публичные художественные и паратеатральные практики еще мог позволить соотноситься только с историей искусства, сейчас он неминуемо влипает в смысловые поля связанные с терроризмом. И кстати, наоборот (история с композитором Карлом Штокхаузеном). Любая громкая акция нынешних артивистов в медиа неминуемо ассоциируется с терактами. Любые разговоры о том насколько она вписана в традицию искусства отодвигаются на задний план и способны породить лишь дополнительные смыслы.
Не случайно профессор Дартмуртского Университета Михаил Гронас, описывавший деятельность «Бомбил» и «Войны» предложил использовать термин «когнитивный терроризм». Т.е. художники с помощью символического насилия добиваются сходных медийных эффектов с теми, которые удаются террористам с помощью субъективного насилия (термин Славоя Жижека).
Это резко отличает ситуацию девяностых от ситуации нулевых, когда вместо террористов были бандиты. Акционисты жили во времена ожесточенных бандитских войн за собственность, но эта реальность не особо волновала художников. Строительство арт-рынка занимало их больше.
Репрезентация
При том что акции акционистов и артивистов внешне похожи, используются разные стратегии выражения (репрезентации). Репрезентация акционистов сводилась непосредственно к самой акции, продукт артивистов - к авторскому отчету в интернете и всегда является вбросом информации в медиа-среду, который должен вызвать бурную реакцию и последующее обсуждение. В артивистких командах часто существует «специалист по тонкой дискурсивной настройке», который раскачивает медийную среду, провоцирует ее на реакции и порождение дополнительных смыслов. Можно с уверенностью говорить о том что артивизм интерактивен.
У акционизма такого не было - была ориентация на художественную, узко профессиональную среду. Хотя нужно признать, что умение Олега Кулика работать с медиа во многом предвосхитило интерактивность следующего поколения художников, которые сделали ее своей репрезентационной стратегией.
Вымывание смысла
Бомбилы, 2007 "БПХ"
Созданная за последнее «новозастойное» десятилетие медиаполитическая система сделала невозможным любое прямое политическое высказывание, которая сразу же «упаковывается» в маргинальные обложки в русле стратегии противостояния «экспансии меньшинства», предложенной Кремлю в начале нулевых политтехнологом Глебом Павловским.
Парадоксальным образом для того чтобы оказаться услышанным необходимо произнести что-то бессмысленное, точнее обыссмысливающее, взламывающее внутренние механизмы пропагандистских машин, эффективно канализирующих любые позитивные высказывания снизу.
Не случайно медиартивисты (в первую очередь «Война» и Артем Лоскутов) активно используют стратегии subversive affirmation (см. ), которые вызывают крайне нервную реакцию властей и оказываются эффективными, что помогает артивистам проникать в медиа в том числе и лояльные властям.
Эта ситуация специфична для артивизма. Акционизм, опасающийся выходов в открытый социум и живший в странном информационном поле бульварных газет и специализированных высокоинтеллектуальных изданий о современном искусстве, не сталкивался с этими проблемами.
В этом месте логично было бы подвести итоги, сделать прогнозы развития артивизма в России. Но это делать пока рано несмотря на то что с этим культурным явлением связаны ожидания.
«Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться».
Михаил Бахтин
Непрямое ограничение прав человека эффективнее подавляет свободу, чем прямое воздействие со стороны системы. Завуалированные рычаги давления на информационное пространство, незримое ограничение гражданских прав и возможностей всегда являлись действенным орудием. Что возможно противопоставить этой скрытой угрозе? Такие же неутилитарные методы борьбы, которые не вписываются в привычные рамки социального или политического сопротивления, противостояние, которое облекает себя в новые нетрадиционные формы.
Политический акционизм возник в 1960-е годы как новая форма протеста и радикального жеста. Одной из причин появления той или иной акции есть не просто наличие проблемы, а то, что люди живут с этой проблемой, примирившись с обстоятельствами. Акционизм – это критика. Не обязательно критика искусства, но обязательно критика с помощью художественных методов. Используя визуальные образы и активно спекулируя ими, акционист говорит о социальных институтах, политике или обществе в целом. Он деконструирует ткань социальной реальности, выходя за рамки художественного поля, но оставаясь в рамках художественной формы. Акция не только разрушает задекорированную реальность, но и диагностирует социальный и политический тупик, в который зашло общество и выбираться из которого не хочет.
Акционизм утрачивает необходимость в производстве материального продукта, ведь уже сама форма высказывания является протестом против капиталистической системы, в которую втягивается искусство, против его институционализации и формализации, против бессмысленного производства артефактов. Немецкий социолог Георг Зиммель писал о том, что эстетическое является материальным воплощением символического – некая статическая форма, которую можно наблюдать и переживать. В акционизме такой формой становится сам художник. Рождаясь из конкретики социального и политического, акция оформляется в визуальный образ, стирая привычные границы между произведением и автором.
Сознательно или нет, но акционизм продуцирует марксистскую идею об искусстве, которое должно стать не созерцанием, а «инструментом борьбы». Согласно марксизму, необходима девальвация категории прекрасного, которая не дает человеку ничего, кроме подмены реальности. Но марксизм, как любое политическое течение, рассматривает художника лишь в качестве идеологического орудия, инструмента для поддержания нужного порядка. Акционизм же, напротив, отвергает подчиненность любой идеологии или лидеру, не позволяя искусству обслуживать режим, погружаясь в конъюнктуру и декоративность.
Акционизм как нечто, не укладывающееся в рамки традиционного понимания об искусстве, то, что стремится подорвать социальные нормы, расширить не только границы искусства, но и границы общественного сознания, нарушить покой и гражданина, и государства, воспринимается обществом как ненормальное, чужое, дикое.
У многих акционизм вызывает отторжение и отвращение. Возможно ли, что он пугает не оттого, что мерзок, ужасен и в нем сложно усмотреть эстетику, а оттого, что акционизм обнажает вещи, которые не хочется видеть? Один из главных вопросов философских рассуждений Оскара Уайльда звучит так: «Возможен ли чисто эстетический интерес к болезни, от которой умираешь?». В контексте современного акционизма ответ может быть таким – художник применяет эстетический язык для обнаружения и описания смертельной болезни, чтобы затем кто-то другой произвел применительно к ней более радикальные хирургические манипуляции. К примеру, акции российских акционистов построены на разрушении мифов о благополучии российского общества и обнажении реальных мотивов и действий властей, разоблачении тоталитаризма современного государства.
Акционизм происходит тогда, когда ничего не происходит. Он появляется от активных действий со стороны государственного режима и активного бездействия со стороны общества. В социальной системе всегда должен происходить диалог: народа с властью, человека с социальными институтами. Диалог должен быть равноценным, когда обе стороны принимают в нем участие. Он может быть физическим или ментальным, принимать формы столкновений или дебатов, революций или выборов. Проникновение, в результате которого изменяются оба участника.
В основании акционизма, как и любого другого культурного или социального действия, лежит диалог – осмысленный и глубокий, результат которого должен привести к определенным последствиям. Это разговор художника с властью, где общество выступает скорее не активным субъектом, а наблюдателем.
Акционизм возможен тогда, когда бездействие и пассивность становятся основополагающими в жизни общества. И если диалог власти и «оппозиции» отсутствует, то художник берет на себя смелость и ответственность первого слова. Художник начинает свое действие, на которое государство, в свою очередь, «дает» или не «дает» разрешение.
Суды, аресты, слежки – методы, которыми органы власти якобы запугивают и пресекают очередную «выходку» акциониста, лишь часть игры. Необходимость следовать протоколу подталкивает власть на ответные действия, ведь если есть прецедент, система обязана на него реагировать – правоохранительные и судебные органы должны оправдывать свое существование, поддерживать законы, соблюдать общественную гигиену. Активные шаги системы становятся катализатором для ответных действий другой стороны. Игра ради игры, где художник исполняет благородную роль непримиримого борца с системой, а государство покорно играет роль мальчика для битья, таким образом удерживая выгодного ей противника на карте соревнований. Ведь если нейтрализовать художника, то на его место может прийти более сильный противник, который может стать более опасным для государства.
Акционист в украинской действительности сегодня – неудавшийся подражатель реальности. И если российский акционизм всегда отличался конфронтацией художника и государства или порицанием со стороны иных социальных институтов, то украинский акционизм скорее всего станет конфликтом художника и проходящего мимо человека, который стал зрителем поневоле. Абсолютные патерналистские отношения государства и общества в России воспитали привычку рассчитывать на то, что проблему всегда устранит старший. Реакция на очередную акцию – это не недоумение или стыдливо спрятанные глаза, а сознательное бездействие, подкрепленное уверенностью в том, что государство немедленно отреагирует и решит все неудобства. Украинская общественность уже не готова позволить себе такую роскошь, поэтому даже ситуацию с художником, который внезапно ворвется в публичное пространство, каждый будет решать по-своему.
Художнику, особенно художнику-акционисту, жизненно необходимо внимание. Общественное порицание, активные обсуждения в медиа, действия со стороны пенитенциарной системы – без всего этого акция исчезнет в момент появления. Реакция должны быть неоднородной, категоричной, массовой. Это необходимые инструменты, которые общество вкладывает в руки художника для завершения его работы. Сможет ли сегодня украинское общество дать их хоть одному художнику? Ведь такая ситуация возможна только во время общественной апатии и застоя, которые дают возможность художнику действовать, системе отвечать, а общественности наблюдать за происходящим, что абсолютно невозможно в современной Украине.
Что такое акционизм? Услышав данный термин, те из вас, уважаемые читатели, кто находится в постоянном или хотя бы периодическом контакте с информационным потоком, практически наверняка вспомнят про отечественных артистов данного жанра. Не будем лишний раз описывать деяния сиих бравых молодых людей, ограничимся лишь констатацией того факта, что все их акции носят в основном политический характер и направлены против каких-либо явлений. Эти черты являются ключевыми для них, но не определяющими для данной формы искусства в целом, так что ассоциировать акционизм и выходки разной степени абсурдности местных «активистов» — значит заблуждаться.
Акционизм фактически появился в поиске новых форм художественного выражения во второй половине XX века, но предпосылки для его возникновения имели место и ранее. Так, например, проявлениями акционизма можно считать разрушение торговых точек в Храме и последующее распятие Иисуса — будучи пояснёнными Новым Заветом и трудами отцов церкви, эти события вполне попадают под категорию акционизма. Но в традиционном понимании, идеология акционизма формируется в начале XX века — именно в этот период отношение к искусству интеллектуализируется, и акцент смещается с визуальной части на теоретическую. Эстетика в своем классическом понимании вообще отходит на задний план и тут свою роль сыграли теории Маркса о классовости представления о красоте и фрейдизм, который искусство вообще окрестил вторичной сферой сублимации влечений; даже у Канта сфера эстетического существует как выражение Истины, то есть в качестве формы для более значимого содержания. В актуальном (оно же современное) искусстве на первый план вышел смысл, а в каком именно виде он преподносится — уже другой вопрос. Если смотреть в этом ключе, то акционизм ничем не отличается от других современных видов искусства. Дитя своего времени, так сказать. Эстетическая ценность постулируется как «украшение», изъятое из пространства «необходимого».
Так, начало XX века стало эпохой расцвета культурного авангардизма, провозглашавшего принципиальный отказ от общепринятых норм. Из авангардизма появились и сюрреализм, и абстракционизм, и кубизм — начало XX века стало эпохой неустанного поиска новых решений, интерпретаций и экспериментов. Что, в итоге, и привело часть творческой интеллигенции к мысли, что определенные художественные образы можно выразить лишь в действии, зачастую, при непосредственном контакте с публикой.
Одним из пионеров акционизма считается американский художник Пол Джексон Поллок, или Джек Разбрызгиватель, как окрестили его журналисты. К тому времени он уже отошел от традиционной живописи, оказавшись под впечатлением от работ представителей современного искусства, в частности, . Так, Поллок стал продвигать бренд «абстрактный импрессионизм», в чем ему активно помогала пресса, охочая до всего нового. Его работу заснял Ханс Намут, запечатлев авторскую «льющуюся технику». Освещение в СМИ под правильным углом обеспечило Поллоку расположение состоятельных ценителей современного искусства, а его работа на камеру теперь считается одним из первых примеров акционизма, равно как и философия его творчества. Как видите, направленность на медиа прослеживалась в акционизме с самого старта.
Другим проводником акционизма в мир современного искусства считается Ив Кляйн, французский художник-экспериментатор, новатор, дзюдоист, мистик и большой мастер в деле создания шумного инфоповода. Он устраивал для почтенной публики самые разные представления: томил в ожидании посещения пустой комнаты, баловал одинаковыми картинами синего цвета, развлекал голыми моделями, разукрашенными синей же краской и делающими отпечатки своих нагих тел на бумажных полотнах. И все это, конечно же, имело свою концепцию, броское название и, разумеется, привлекало внимание прессы.
Одним из самых известных перформансов Кляйна стал «Прыжок в пустоту» (Le Saut dans le vide), умело запечатленный фотографами и представленный позже на парижском Фестивале авангардного искусства.

В конце 50-х акционизм становится схож с театральными постановками — это уже не просто удивляющие читателя художественные выходки, а интерактивные представления в четырех измерениях. Это уже попытка стереть границы искусства и реальности. По сути — все эти перформансы, хеппенинги, эвенты и прочие родственные «художественные» формы, зачастую неотличимые друг от друга — широчайшее поле для проявления фантазии и личности автора. И в результате именно личность играет тут решающую роль, от личности зависит, что ждет потенциального реципиента — арт-терроризм или групповая медитация под мурлыканье.
Сальвадор Дали, например, мог бы стать настоящим мэтром акционизма, но увы — он не считал нужным как либо комментировать свои эпатажные выходки, которых было не мало: и мёд ножницами резал, и муравьеда выгуливал, и голым на деревянном коне скакал. Отсюда получается, что к акционизму можно отнести любую выходку, но только если она снабжена «пояснительной запиской», хотя бы условно намекающей на суть замысла авторов акции. В теории, таким образом должен осуществляться художественный диалог между обществом в целом и его художественным авангардом, считающим себя наиболее прогрессивными элементами этого самого общества. Но на практике послания «художников» стали приобретать всё более ситуативный, конъюнктурный характер, направленный на продвижение конкретных идей и настроений.
Если Малевич еще разграничивал пространство искусства от повседневности, то Дюшан от этой границы камня на камне не оставил и демонстрировал в искусстве объекты повседневности как произведения искусства и наоборот. Нечто возвышенное превращается в отбросы, отбросы — в объект пристального внимания зрителя. Все границы сметаются и главным становится взгляд как категория (ну и смысл, куда ж без него). Акционизм в этом плане, в эпоху тиражирования произведений искусства, отрицания эстетического начала, как главенствующего, и размытых границ — довольно традиционная уже вещь, которая не выходит за рамки традиционного (современного) искусства, где главенствующее положение занимает уникальность высказывания.
Так что развивается и экзистенциальный акционизм, выражающий некие «вечные» философские вопросы и базирующиеся на них фундаментальные психологические дилеммы. Существует акционизм совсем узкой направленности, нацеленный на ретрансляцию смыслов, понятных и актуальных отдельной группе людей, но и проводятся такие акции внутри той самой группы, а потому узнать об их существовании можно лишь из третьих уст. СМИ же тиражируют информацию лишь о наиболее резонансных акцииях, которые зачастую имеют политическую направленность.

Вместе с тем, политические акции привлекают наиболее маргинальных элементов, которые к миру творчества, зачастую, не имеют никакого отношения. Их действия дискредитируют акционизм в глазах массового зрителя, но создают при этом шумные инфоповоды и вызывают социальный резонанс. Если говорить о подобных «художниках» в контексте искусства, можно вспомнить любопытную реплику, изрек которую в интервью «Афише» Анатолий Осмоловский, почитаемый как один из основателей московского акционизма:
— Если искусство подлинное, оно никогда не занимается оформительством.
Данная цитата — показательна во многих аспектах. Во-первых, ее автор исключает из числа произведений «подлинного искусства» роспись свода Сикстинской капеллы Микеланджело, например. Ведь это оформительство. Или , выполнил которое Виктор Васнецов. Это два примера, которые возникли буквально сразу же. Но если задуматься, то утверждение Осмоловского исключает из перечня «подлинного искусства» и перформансы его коллег, и его собственные, ведь все они являются не чем иным, как художественным оформлением определенных идей. А если подумать глобальнее, то любое творчество впринципе — это материальное оформление художественного замысла.
В этом и заключается суть современного мейнстримового акционизма. «Громкие» «художественные акции» всегда нацелены на СМИ и являются, в лучшем случае, маркетинговым ходом или заказной акцией, суть которой профит. А в худшем — проявлением чрезмерного Эго автора акции, считающего собственные взгляды исключительно правильными и стремящегося донести свое видение до как можно большего числа реципиентов, как правило при помощи откровенно вызывающих поступков, оправдывая свои действия значимостью идей, в них вкладываемых. Это искусство провокации, искусство разрушения, проявление человеческого тщеславия и корысти, скрываемое ширмочкой высоких смыслов, но никак не художественная практика.
Вместе с тем, осуществляются также вполне безобидные, мирные и необычные акции, перформансы, ивенты и прочие действа, несущие в себе определенные идеи и смыслы. Но в силу скудности их освещения в прессе — это остается искусством для узкого круга ценителей и знатоков, элитарность которого с удовольствием примеряют к своему Я упомянутые выше маргиналы.
«Эпоха Ельцина», или «лихие девяностые», вошла в историю искусства радикальными перформансами московских акционистов: Олега Кулика, Анатолия Осмоловского, Александра Бренера, Авдея Тер-Оганьяна и Олега Мавроматти, не утративших своей актуальности и по сей день. Философ и историк искусства Ольга Грабовская систематизировала и проанализировала методы политической борьбы, применявшиеся этими художниками, выделив среди них несколько основных критических стратегий: экспроприация публичного пространства, профанация, провокация, аффективный жест, телесность и трансгрессия.
Вопрос интерпретации политического искусства не менее важен для его функционирования, чем непосредственная его реализация в том или ином художественном произведении. Очевидно, что все это - часть одного процесса. Именно поэтому этот вопрос требует решения проблемы ракурса или парадигмы анализа, определяющего характер того, что, собственно, интерпретируется. Определение «политики» через понятие критической стратегии борьбы с господствующим дискурсом, и определение «политического» как нарушения однородности поля смыслообразования позволяет говорить о политическом искусстве не просто как о поставщике утопических ценностей для общества, но как об инструменте реальной политической трансформации, а художественный жест рассматривать как непосредственно политический. Это также расширяет инструментарий критики (мастурбация тоже может стать артикулированным критическим жестом). Эффект политического жеста не зависит от сферы, в которой он осуществляется (будь то сфера профессионально-политическая или культурная): нарушение коммуникативной функции политического высказывания может совершиться как на политическом форуме, так и в музее.
На поэтическом уровне такая парадигма дает возможность выделить в политическом искусстве определенные художественные приемы, функционирующие в качестве критических стратегий.
Экспроприация публичного пространства
Цель акции в политическом искусстве, так же как и акции в политическом активизме, - достичь максимального критического эффекта, а не выразить идею или произвести какой-либо продукт.
Политический лозунг как форма публичного выказывания представляет собой ясное изложение социальных требований в емкой и лаконичной формуле. Редуцирование лозунга, прежде претендовавшего на выражение классового интереса в акции «Баррикада на Большой Никитской» группы «Внеправительственная контрольная комиссия» в мае 1998 года в непереведенных французских лозунгах сводит форму протеста к отказу от артикуляции требования как условия коммуникации.
Критика псевдокоммуникации и гомогенности информационного поля осуществилась в критике выборов как основного принципа представительной демократии.
В рамках проекта «Предвыборная кампания “Против всех партий»», предпринятого группой «Внеправительственная контрольная комиссия» совместно с журналом «Радек», была проведена серия акций, сочетающих традиционную политическую агитацию с ситуационистским захватом городского пространства: закидывание Госдумы бутылками с краской, вывешивание лозунга «Против всех партий” на мавзолее В.И. Ленина и т.д. Программа проекта утверждалась авторами в первую очередь как кампания, направленная на «критику политического представительства». Критика псевдокоммуникации и гомогенности информационного поля осуществилась в критике выборов как основного принципа представительной демократии. Анархистские взгляды Ги Дебора, переработанные Фуко и Делезом, позволили художникам, ориентированным политически и культуркритически (Kulturkritik - подход к культуре, рассматривающий ее в социальном, политическом и экономическом контекстах - ред. ), соединить политический и художественный жест в критике механизма представительного правления.
В акции Александра Бренера «Первая перчатка» (протест против военных действий в Чечне) художник, как и группа «Внеправительственная контрольная комиссия», использовал публичное пространство для политического высказывания. Спарринг, как принципиальный отказ от диалога, означал критику такого понимания политического высказывания в публичном пространстве, которое предполагает ясность требования, направленного на консенсус с властью.

Профанация
Структура акции «Э.Т.И-текст» опирается на очевидный эффект столкновения сакрального и табуированного. В основе этого эффекта лежит прием профанации, актуализирующий значение сакрального в политическом дискурсе.
С этой точки зрения акция «Э.Т.И.-текст» - яркий образец политической профанации: пространство Красной площади, представляющее собой сакрализованный символ политической власти и политического строя как таковых, подвергается критике благодаря альтернативному спектакулярному действу, нарушающему гомогенность властного дискурса.
Стратегия профанации реализуется и через критику сакральной функции художника. Художник, как «культурный герой», обеспечивает понятие «аффирмативной культуры» (интерпретация понятия Kultur Гербертом Маркузе), призванную нейтрализовать и сублимировать общественные противоречия в сфере эстетического.
Объектом профанации в акции Бренера в Пушкинском музее, где он выложил фекалии перед картиной Винсента Ван Гога с возгласом «О, Винсент!», оказалась фигура художника, превращенного современной художественной системой в отчужденный сакральный объект. Точно так же публичное пространство музея превратилось в хранилище фетишизированных предметов искусства. Сходный смысл имела акция Бренера в амстердамском музее Стеделек в 1997 году, в ходе которой он нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм (Белый крест)», где профанации, помимо всего прочего, подверглось само произведение искусства.
Джорджо Агамбен определяет профанацию как возвращение вещи из сферы сакрального или религиозного в сферу общего человеческого пользования. Свободная коммуникация невозможна в поле сакрального, где любая возможность «критики» получает функцию прославления власти.
Акция Авдея Тер-Оганьяна «Юный безбожник» в 1998 году в Манеже профанировала сакрализацию дешевых репродукций икон, вскрывая связь механизмов сакрализации в религии и в капитализме. Одновременно профанировалось и место проведения акции - Центральный выставочный зал «Манеж», и модус поведения многих современных художников. С помощью приема профанации Тер-Оганьян смог осуществить серийную рефлексию над современным авангардным искусством в рамках проекта «Школа авангардизма» (например, акция 1998 года «Лизание жопы нужным людям»).

Провокация
В акции «Э.Т.И.-текст» коммуникативное содержание ограничивается провокацией, не рассчитывающей на ответ и не формирующей противоположное мнение, которое может быть расценено как требование или претензия.
Крайне важный модус анализа стратегии провокации - это модус поворота искусства к партисипативным формам, осуществленным еще авангардистами как механизм сакрализации культурной сферы. Различные утопические проекты, в основе которых лежит идея единения с публикой, направлены именно на такую сакрализацию. Эссенцией их предстает вагнеровский Gesamtkunstwerk.
Интерактивные формы искусства сами по себе отнюдь не обладают критико-политическим потенциалом в марксистском понимании, зачастую лишь подтверждая автономный и сакральный статус искусства. Провокация и скандал в этом случае представляют собой форму коммунального произведения, а вовлечение публики в процесс творения, слияние искусства и жизни воспроизводят архаичную модель сакрализации как механизма поддержания жизнеспособности ритуала.
Интерактивные формы искусства сами по себе отнюдь не обладают критико-политическим потенциалом в марксистском понимании, зачастую лишь подтверждая автономный и сакральный статус искусства.
Одной из самых шумных провокаций московских акционистов стала акция на выставке в Стокгольме в рамках интернационального проекта Interpol (1996). Изначальной идеей проекта был диалог между художниками Запада и Востока. Западную часть курировал Ян Оман, а Восточную - Виктор Мизиано. Александр Бренер, после того как полтора часа барабанил у входа на выставку, издавая гортанные звуки, частично разрушил огромную инсталляцию из волосяных шпалер художника Венда Гу. После чего Олег Кулик, который исполнял роль сторожевой собаки, в течение некоторого времени бросался на посетителей.
Европейские организаторы выставки вызвали полицию, а редактор модного журнала Purple Prose Оливье Замм назвал художников фашистами. После европейскими участниками было организовано собрание, в рамках которого было коллективно подписано «Открытое письмо художественному миру», в котором Бренер, Кулик и Виктор Мизиано обличаются в качестве «врагов демократии», тоталитарных реваншистов, неоимпериалистов, противников женщин-художниц и т. п. Подобная реакция совершенно идентична реакции венского австрийского общества на акции венских акционистов, в ходе которых пропагандировались «хаос и уничтожение буржуазного общества». Диалогу и консенсусу здесь противопоставился отказ от коммуникации, выраженный в аффективных жестах как редуцированных формах выражения.
Здесь критика аффирмативной функции культуры реализовалась через актуализацию и критику утопических амбиций, налагающей на художника функцию проводника образов социального благополучия. В отношении московских акционистов можно утверждать, что значение их провокационных акций состоит не в расширении и развитии художественных форм, а в демонстрации тщетности утопических стремлений искусства.
Именно поэтому Александр Бренер постулирует неудобство и неожиданность в качестве неотъемлемых атрибутов провокации и вместе с тем в качестве характеристик эффективных критических средств. Такая риторика соответствует стратегиям критики рационального дискурса как продолжения марксовой идеи критики идеологии, развиваемой постмарксистскими философами.

Аффективный жест
В манифесте «Джонни Кэш, Борис Гройс, Петер Вайбель и Великий плевок» Александр Бренер называет такую форму аффективного жеста, как плевок, неопределенным бунтом (uncertain rebellion). Неопределенность и мгновенность (или моментальность) направлены на ускользание от вписывания высказывания в гомогенное поле смыслообразования и обеспечивают акции функцию мобильности. Аффективный жест в таком случае выглядит как аналог личного оружия, которое может быть использовано здесь и сейчас, минуя понятия уместности, целесообразности или правомерности. Такое портативное средство критики вполне соответствует идее революции повседневности как последовательного развития понятия политического через практику, устраняющую границы собственной легитимности, будь то границы профессионального или дискурсивного толка.
Аффективный жест используется московскими акционистами как механизм буквализации, который реализует претензию на непосредственность и риторическую «обнаженность».
Жиль Делез и Феликс Гваттари в работе «Капитализм и Шизофрения» идеальным субъектом политической практики видят именно субъекта, постоянно ускользающего от самоидентификации или субъективации. Жак Рансьер, развивая этот тезис, также подчеркивает революционный потенциал субъектов, которые не поддаются идентификации, поскольку исключены из процесса коммуникации и консенсуса современного западного общества. Александр Бренер использует образ художника третьего мира как раз в качестве образа субъекта без самоидентификации. С точки зрения эффективности политического жеста эксплуатация фигуры «русского художника» не является попыткой обращения к «националистическому дискурсу» как средству самоопределения, но, напротив, направлена против художественных институций и основных механизмов их функционирования.
«Абсолютизирующие эпитеты» в текстах и акциях Бренера поддерживают модус наивности, совпадающий с модусом угнетенного маргинального сознания как источника критики репрессивного механизма социокультурной идентификации. Мишель Фуко в тексте «Дискурс и правда: проблематизация паррезии» , анализируя понятие паррезии через его связь с понятием искренности, отмечает, что «в паррезии говорящий ясно и очевидно показывает, что то, что он говорит, это его собственное мнение. А это достигается за счет избегания любых риторических форм, которые бы скрыли то, что он думает. Наоборот, parrhesiastes использует наиболее однозначные слова и формы выражения, которые ему доступны». Наиболее любопытно, что паррезия как искренность связывается не с правдой, а именно с критикой. Для Фуко принципиальным является возможность подойти к паррезии именно как к политической, критической практике. Это позволяет интерпретировать преобладание абсолютизирующих эпитетов в риторике московских акционистов именно как определенную критическую стратегию в политическом дискурсе.
Кроме того, аффективный жест используется московскими акционистами как механизм буквализации, который реализует претензию на непосредственность и риторическую «обнаженность». Косвенное выражение эмоций с помощью фразеологизмов и высказываний переносится на уровень их буквального воспроизведения как, например, в акции с мастурбацией Александра Бренера в 1994 года на вышке для прыжков над бассейном «Москва» или в акции Тер-Оганьяна «Лизание жопы нужным людям».

Телесность
Возникновение искусства перформанса очевидно связано с авангардной идеей преодоления границ между искусством и жизнью, так же как и идеей критики репрезентации, в основе которой лежит стремление разложить язык, свести его к звуку, материалу или мусору. Московские акционисты в некотором смысле реализовали те же тенденции, редуцируя знак к телу.
Тело художника как место столкновения публичного и приватного выведено из сферы утопической перспективы в практику трансформации политического дискурса.
В отличие от боди-арта, превратившего культурную критику венских акционистов в форму искусства, достигающего катарсиса через телесные практики художника (в этом ключе работает, к примеру, Марина Абрамович), эксгибиционистские акции московских акционистов используют обнаженное тело в качестве одного из самых сильных спектакулярных средств отказа от коммуникации. Не ограничиваясь использованием тела как художественного материала, они используют его для политической критики самой оппозиции публичного и приватного, которая задает распределение смыслов в политическом дискурсе. Неудача и ничтожность, которые демонстрируют акционисты, не соответствуют претензии на роль культурного героя. Тело художника как место столкновения публичного и приватного выведено из сферы утопической перспективы в практику трансформации политического дискурса.
В акции «Свидание» 19 марта 1994 года на Пушкинской площади перед памятником Пушкину Александр и Людмила Бренер не просто воспроизвели мотив критики сексуального угнетения. Сопровождающий акцию аффирмативный жест Бренера - крик «Ничего не получается!» - превратил ее в критико-политическую стратегию, так как постулирование беспомощности воспроизводит и культуркритическую функцию в отношении фигуры художника, и функцию преодоления возможности коммуникативной адаптации политического жеста.

Трансгрессия
Кроме всего прочего, телесные акции выполняют функцию социальной трансгрессии или преодоления культурных табу. Французский философ Жорж Батай на основе этнографических открытий, развивает собственное понимание трансгрессии как основания человеческого бытия. Согласно Батаю, общественное устройство, построенное на исключении «низкого», - в корне репрессивно. Поведение художника-акциониста полностью отвечает Батаевской идее революционного жеста через заострение и артикуляцию сущностной внутренней разорванности человека, то есть через трансгрессию.
Вытеснение фигуры художника-героя художником-извращенцем в московском акционизме за счет критики отчужденности субъекта через систему культурных запретов производит крайне критически дистанцированную политическую стратегию.
К примеру, акция переворачивания и столкновения сакрального и профанного «Не верь глазам» Олега Мавроматти спровоцировала властные органы на возбуждение уголовного дела по статье 282 УК («Разжигание национальной, расовой и религиозной вражды»). Роль богохульника, отведенная художнику, лишает его возможности позитивного установления смысла. Насилие со стороны Мавроматти, адресованное, следуя «экспертному заключению», сделанному в ходе судебного разбирательства, «всем христианам», критически воспроизводит сам механизм властного табуирования посредством риторики невозможности, неправомерности, ненормальности и однозначной немыслимости подобного действия в существующей системе смыслообразования. То же касается и акции Александра Бренера с мастурбацией на вышке бассейна «Москва».

Они устроили какую-то акцию на концерте, поднялись на сцену, хотя их никто не приглашал, стали исполнять свою музыку. И это была такая совершенно акционисткая деятельность, так как музыка их, по сути, совершенно не музыкальная, ряд композиций сводится к каким-то лозунгам, например, есть композиция «Никакой Украины нет»
, в которой в течении двух минут тишина. Это вполне себе такое акционистское искусство, на мой взгляд.
Отличие, которое сразу бросается в глаза, заключается в том, что акции происходят в публичном пространстве, а не в закрытом. Концерт же происходит в закрытом или огороженном пространстве, месте культурного производства, а не в месте демонстрации верховной власти. Это не то пространство, где власть утверждает себя непосредственно. Акционизм больше тяготит к таким местам, как Красная площадь.
Действительно, не все акции, исполненные акционистами, являются акциями. Даже Бренер делал и перформансы, например, «Любит. Не любит» в галерее ẌL. Я проясню еще некоторые отличительные аспекты акционизма в сравнении с агитацией, подчёркивая, всё же его революционное значение, которое и отличает его от искусства перформанса, следующим образом: «Революционной силой обладает только связь желания с реальностью, а не бегство в формы представления», как выразился Фуко, сильно повлиявший на ранних акционистов [«Предисловие к американскому изданию "Анти-Эдипа"»; c. 9 ]. Акционисты направляли свою критику на любые формы художественной и политической репрезентации реальности. Акционисты не жертвуют телом ради идеи, но, раскрывая подавленные возможности тела, открывают в нем способность иметь идею . И наоборот, идея для них ничего не стоит без телесного воплощения, публичного, политического. Политическим элементом акционизма является трасгрессивное действие в публичном пространстве, а не только декларация, которая сопутствует ему. Акционизм разрушает «театр легитимности» (Джудит Батлер), который накладывается на публичное пространство властью. Акционизм нарушает функционирование этого театра, освобождая пространство для свободного действия. Тело само говорит в акционизме, связывая слово и действие. Что же это меняет в технике агитации? Для Ханны Арендт свободы не существует вне действия, вне исполнения свободы, то есть её политического воплощения. Большевистская агитация есть выстраивание пространства, обрамляющего слова и возвышающего их среди публики. Акция есть, напротив, смешение слова, действия и публики в одном акте. Большевистская агитация агитирует обещанием свободы, акция агитирует самой свободой и ее исполнением. Поэтому акция сама есть восстание и осуществление свободы, а не только агитационный призыв к их свершению.